дает представления о построении этой пьесы как целого, о ее форме.
«Неоклассическая» направленность определяет многие ценные стороны Хиндемита — композитора и теоретика. Но и наиболее общий недостаток концепции Хиндемита органически связан, на наш взгляд, также с самим существом его как художника-«неоклассика». Новые гармонические средства он стремится использовать таким же образом, как и традиционные, хочет, так сказать, «сделать старую музыку с новыми гармониями». Отсюда столь часто обнаруживающийся у него неисторический подход к различным проблемам теории. В поисках прочных ценностей он готов закрыть глаза на все многообразие исторически развивающихся форм проявления тех самых общих закономерностей, которые он столь высоко оценивает. Создав свою теорию, он хочет не просто увидеть ее связь с музыкой разных стилей, а свести своеобразие каждого стиля к универсальному закону и остановиться на этом, хотя ничто не обязывает его к такому ограничению.
Можно привести немало примеров, вступающих в противоречие с жесткими канонами хиндемитовской системы, или игнорируемые ею новые возможности гармонии:
1. Тритоновая ступень, считающаяся (вполне справедливо) наиболее далекой от тонального центра, в определенных ладовых условиях может оказаться в довольно близком с ним родстве (в ряде сочинений Скрябина, Прокофьева).
2. Тональный центр для Хиндемита — это один звук, подчиняющий себе другие согласно закономерностям Р1. Если же основой тональности являются аккорды V или VI группы, тоника считается неопределенной. Известны, однако, случаи (например, у позднего Римского-Корсакова), когда увеличенное трезвучие или уменьшенный септаккорд могут служить вполне определенным тоническим аккордом, причем каждый из составляющих его звуков примерно в равной степени может претендовать на положение главного. Этот особый вид тоники и ладотональности не «предусматривается» хиндемитовской системой1.
3. Справедливо подчеркивая тональную связность музыкальной композиции, ее «монотональность», Хиндемит не уделяет никакого внимания художественным возможностям полигармонии. Сложная аккордика имеет тенденцию к расслоению на полифонически противопоставленные друг другу части, «пласты». Их определенное взаимодействие может оказаться художественно интересным и ценным.
4. Иногда возникает сомнение в целесообразности некоторых строгих ограничений системы Хиндемита. Например, в сложных аккордах, следующих друг за другом, значение таких тонкостей, как основные или ведущие тоны, подавляется другими, легко воспринимаемыми и более очевидными для слуха факторами (линеарно-регистровое развитие, динамика и т. п.). К едва различаемому основному тону многозвучных, резко диссонирующих аккордов Хиндемит предъявляет такие же серьезные требования, как и к ясно слышимому основному тону простых аккордов.
Таким образом, Хиндемит не до конца последователен в своем стремлении использовать объективные свойства материала и элементарные закономерности отношений между звуками. Вместе с недостаточно гибким применением метода это приводит к известной теоретической неполноте, а иногда и неточности в анализе художественных образцов.
Ряд слабых сторон можно найти также в изложении тех или иных отдельных мыслей. Так, пытаясь объяснить минорное трезвучие (по аналогии с мажорным) с помощью комбинационных тонов, Хиндемит получает результаты, противоречащие слуховому восприятию: основным тоном до-минорного трезвучия оказывается звук ля-бемоль... Признавая здесь свое поражение, Хиндемит пишет (стр. 101–102): «Что же в действительности представляет собой минорное трезвучие? Я считаю его, не следуя больше новой теории, омрачением (Trübung) мажорного трезвучия»; ...«почему едва достойному упоминания удалению от малой к большой терции свойственно столь исключительное психологическое действие, по-прежнему остается загадкой».
Есть в книге Хиндемита и еще некоторые частные недостатки, на которых мы не будем останавливаться. Однако, невзирая на эстетическую ограниченность книги Хиндемита и другие пробелы, его теория расширяет наши знания в области гармонии и мелодики. А главное, она дает ключ к пониманию гармонического языка ее автора — одного из крупнейших музыкантов XX столетия.
_________
1 Кстати, не все аккорды II группы имеют обязательно доминантовый характер, как это указано на стр. 166 «Руководства». Например, третий аккорд в группе II, б, 1, содержащий трезвучие в своей основе, сплошь и рядом применяется как вполне устойчивый аккорд — усложненное минорное трезвучие.
ОБСУЖДАЕМ СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ МУЗЫКАНТОВ
К. Розеншильд
БЛИЖЕ К ЖИЗНИ
В резолюции Июньского пленума ЦК партии выдвинуты задачи дальнейшего совершенствования идеологической работы, особенно подчеркнуто значение идейного воспитания нашей молодежи, студенчества. Достоинство статей, опубликованных «Советской музыкой» (я имею в виду обзор Многотиражной газеты Московской консерватории «Советский музыкант» и последнюю передовую), в том, что они вскрывают довольно распространенные у нас недостатки, в той или иной степени препятствующие выполнению этих задач. Об этом-то и хотелось бы высказать несколько мыслей, вероятно, не новых, даже аксиоматичных, однако приобретающих сейчас новое значение...
Мы так много, убежденно и красиво говорим о воспитательной роли музыки; под этим девизом мы пропагандируем ее в школах, клубах, университетах культуры, по радио. Это очень хорошо. Но вот парадокс: как часто мы сами пренебрегаем всем этим в стенах наших музыкальных вузов, исполнительских классов, на исторических и теоретических курсах! Порой мы склонны забывать, что, помимо музыкальности элементарной (слух, ритм, память, голос, рука), существует музыкальность высшая: восприимчивость к музыкально-поэтическим образам, их идейно-выразительному смыслу и способность «воссоздавать» то и другое в своей интерпретации. И ее, эту восприимчивость высшего порядка, можно пробуждать и умножать, как свидетельствует опыт многих подлинных воспитателей, мастеров своего дела. Но не все, далеко не все заботятся об этом. Такая ли большая редкость, скажем, молодой пианист с отличными октавами в ля-бемоль-мажорном полонезе Шопена, но исполнение которого лишено и попытки воссоздать величие художественного образа? Allegro у него, конечно, есть, иногда даже Allegrissimo, но мы редко слышим настоящее Maestoso: видимо, оно за пределами понимания и воображения исполнителя. Свершилась метаморфоза: полонез — поэтический символ родины художника, ее величия и красоты, своего рода патриотический дифирамб — превра-
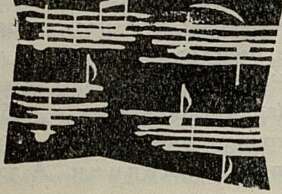
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Характер и коллектив 5
- «Что такое ЛЭП» 9
- По праву будущего 11
- Современную тему — современными средствами 21
- Быть симфонии и опере! 23
- Наболевшие проблемы 24
- «Лунная оратория» 26
- Дети слушают музыку 29
- Обновляя традиции классики 37
- О теории Хиндемита 41
- О теории Хиндемита 42
- Ближе к жизни 52
- Волнующие встречи… 57
- Верди и Шекспир 59
- Русский режиссер об «Отелло» 66
- Финал «Трубадура» 69
- Молодой ансамбль 78
- В исполнении Павла Серебрякова 80
- Хорошее начало 83
- Соратница Шаляпина 84
- Искусство радиопостановки 91
- Серьезным жанрам — первую программу 94
- В эфире — музыка 95
- Исполнитель и песня 97
- В нашем клубе звучит джаз 100
- Орджоникидзе — Нальчик 103
- А ручьи-то журчат… 106
- Раздумья и сомнения 107
- Научить понимать музыку 110
- Образование и воспитание неразрывны 112
- Пусть крепнет наша дружба! 115
- Народная музыка 122
- Песни на скамье подсудимых 126
- С позиций «холодной войны» 128
- Живой Бизе 134
- Итог многолетнего труда 140
- Наши юбиляры: А. В. Богатырев, В. Л. Поляков, В. А. Цуккерман 143
- В смешном ладу 147
- Хроника 152



