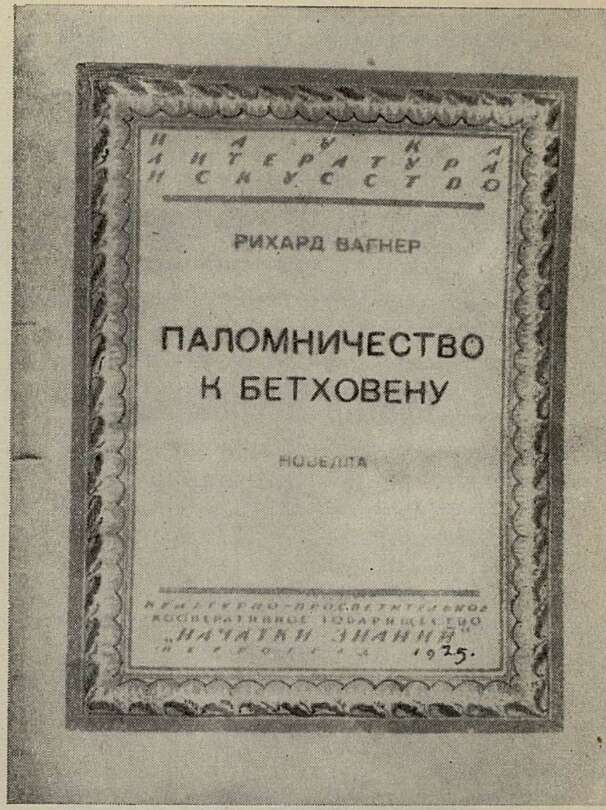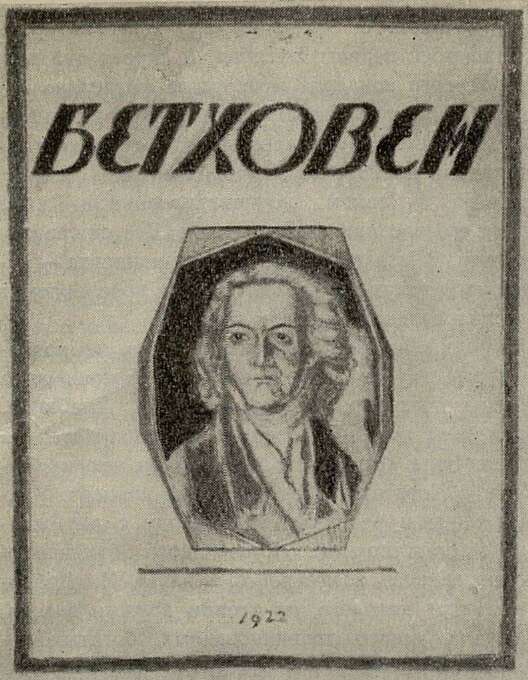
Из книг личной библиотеки В. И. Ленина в Кремле
лыми, но точными штрихами обрисован Ленин — слушатель бетховенской музыки, игравшей столь значительную роль в его жизни на самых грозных и крутых поворотах истории.
Рассказ Е. Драбкиной «Раздумье» ведет нас в суровые и тревожные дни поздней осени 1919 года. В случайно выпавший свободный вечер автор рассказа, в ту пору молодой комсомольский работник («Елизавет-воробей», как шутливо звал ее Ленин), вместе с матерью, одной из героинь большевистского подполья начала века — легендарною «Наташей» (партийное прозвище Ф. Драбкиной) пришли в Большой зал консерватории. Холода той осенью наступили неожиданно рано, и в зале было немногим теплее, чем на улице. Гардероб не работал...
«...Билеты наши были в партер — в пятый или шестой ряд. Прямо передо мной место было свободно, а следующее кресло занимал человек в шапке-ушанке, отделанной черным мехом. Воротник пальто был у него поднят, он сидел, устало опустив плечи... Появились оркестранты в шубах и шапках... Вышел дирижер — если мне не изменяет память, Сергей Кусевицкий. На нем был фрак, но вместо белого пластрона из-под фрака выглядывал серый свитер... Концерт начался...
Я запахнула поглубже пальто и приготовилась слушать, но мама тронула меня за руку. Одними глазами она показала мне на того человека, который сидел впереди, слева от меня. Теперь он снял шапку и опустил воротник. Я увидела, что это Владимир Ильич...
...Слушая и не слушая увертюру “Кориолан”, я неприметно, боковым зрением наблюдала за Владимиром Ильичем. Он сидел не шелохнувшись, поглощенный музыкой...»
Пересматриваю газетные комплекты осени девятнадцатого года. Хочу выяснить, когда же состоялся этот концерт и какова была его точная программа.
Удивительное, волнующее ощущение остается от чтения этих газет. Отзвуки решающих боев с Колчаком, Юденичем, Деникиным. Отголоски предательского взрыва в Леонтьевском переулке, стоившего жизни славной когорте московских коммунистов. Чудовищная разруха, голод, отсутствие топлива, приостановка промышленности. Каждый номер «Правды» открывается «шапками»: «Товарищи красноармейцы! Большинство из вас крестьяне. Что делаете вы для защиты захваченной у помещиков земли?..» (3 октября). «Крестьяне! Сотни лет дворяне и помещики пили из
Программа концерта 4 октября 1919 года
вас кровь. Хотите ли вы их возвращения? Если не хотите — давайте хлеб красноармейцам!..» (4 октября). «Пролетарии Советской России!.. Учитесь у питерских рабочих! Собирайте силы для отпора Деникину!..» (5 октября).
Казалось бы, в этой грозовой атмосфере печати не до сообщений о музыкальной жизни. Но в конце каждого из упомянутых номеров «Правды» — извещения об очередном концерте бетховенского цикла в Большом зале консерватории, открывшегося первого октября. А спустя два дня после первого концерта московские «Вечерние известия» публикуют специальную статью, в которой говорится: «Музыкальный октябрь девятнадцатого года начинается и проходит под знаком Бетховена. В таком концентрированном виде Москва его воспринимает впервые. Все симфонии, увертюры, Missa solemnis, четыре концерта — кажется, максимум возможного для прославления искусства великого жизнетворца...»1.
Ни один из бетховенских вечеров не повторял программу другого! И вот он, тот концерт, о котором, очевидно, рассказывает Е. Драбкина. Дирижирует им С. Кусевицкий, и исполняется на нем увертюра «Кориолан», а вслед за нею и «Леонора», и Четвертый фортепианный концерт. Удалось найти и рецензии, где наряду с дирижерским мастерством С. Кусевицкого отмечается «вдохновенность и честность в звуке И. Добровейна», игра которого, по словам другого автора, заключала «много проникновенных, богатых переживаниями моментов»2.
Случайно сохранявшаяся в фондах Музея музыкальной культуры программа подтверждает точную дату: 4 октября 1919 года. И хотя октябрь еще лишь начинался, холод в зале, как и описывает Драбкина, действительно стоял изрядный. Недаром в первые же октябрьские дни в московских газетах появилась специальная, мобилизовывавшая внимание рубрика «Борьба с холодом», а на страницах «Вестника театра» вскоре можно было прочитать заметку, бесстрастно озаглавленную «В консерватории»: «Надежды на доставку дров для отопления Большого зала консерватории пока не оправдались. Однако перерыва цикла объявленных симфонических концертов не последовало, несмотря на то, что артистам оркестра приходится играть в пальто и калошах, а
_________
1 А. Углов. Бетховенский цикл. «Вечерние известия Московского совета» от 3 октября 1919 г. См. также статью «Месяц о Бетховене» в «Вестнике театра» (1919, № 43).
2 «Вестник театра», 1919, № 43; «Вечерние известия Московского совета», от 11 октября 1919. В рецензиях отмечались и недостатки в организации концертов, отсутствие вступительных слов и программ-пояснений, подчеркивалась необходимость использовать все средства музыкальной пропаганды в связи с приходом новой, демократической аудитории: «Надо сделать бетховенский цикл не только торжественным праздником, но и источником художественного знания...». «Надо учитывать, что жажда к просвещению у средней современной аудитории во сто крат сильнее, чем у средней дореволюционной».
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Песня о Ленине» 5
- Ленин слушает Бетховена 9
- Самая любимая песня 15
- Ответственность художника 17
- Доброго творческого пути! 19
- Секрет молодости 22
- О нашей профессии 31
- Упадок или обновление? 35
- Развитие традиций 41
- Третья симфония Бородина 47
- Письмо В. В. Стасова 53
- «На баррикады!» 64
- О последних сонатах Бетховена 71
- Заметки о подготовке музыкантов 78
- Памятка 80
- Из воспоминаний 82
- Из воспоминаний 83
- Из воспоминаний 86
- Ф. М. Блуменфельда 87
- Замечательный музыкант 90
- Вокальные вечера: Надежда Казанцева 94
- Вокальные вечера: Александр Ведерников 95
- Вокальные вечера: Валентина Левко 96
- Вокальные вечера: Молодые певцы 96
- Вокальные вечера: Новинки камерной музыки 97
- Вокальные вечера: «Дитя и волшебство» 98
- На симфонических концертах: Дрезденская капелла 100
- На симфонических концертах: Кубинский дирижер 102
- На симфонических концертах: Оркестр Польского радио 102
- Камерный оркестр консерватории 103
- Оркестр Вильнюсской школы искусств 104
- Аргентинская гитаристка 105
- Письмо в редакцию: И. Маркевич отвечает И. Стравинскому 106
- На гастролях киевлян 107
- Все ли благополучно? 111
- Современная тема обязывает 117
- «Мир композитора» 119
- Критики и апологеты польского "авангарда" 124
- Варшавский Большой театр 130
- Э. Майер и его Фортепианный концерт 133
- Новые оперы 134
- Впереди большая работа 136
- «Лулу» Альбана Берга 137
- Франсис Пуленк 138
- Наши друзья пишут о своих планах 141
- Современники о Чайковском 142
- Живой Рубинштейн 144
- Исследование об армянском музыканте 146
- Вышли из печати 147
- Наши юбиляры: Ю. С. Милютин 148
- Наши юбиляры: Б. М. Терентьев 149
- Образ вождя 151
- Новелла о Ленине 153
- Памяти павших, во имя живых! 155
- В Министерстве культуры СССР 155
- 70 и 50. К юбилею Г. А. Столярова 156
- Встреча с Асафьевым 157
- Они приняты в Союз 158
- На трибуне - лекторы 158
- Премьеры 159
- После юбилея 159
- Старейшее училище Сибири 159
- А. Шелест — Клеопатра 160
- В Комиссии музыкальной критики 160
- От имени шефов 161
- Гости из Закарпатья 162
- Памяти ушедших. С. Н. Кнушевицкий 163
- Памяти ушедших. Я. А. Эшпай 163
- Памяти ушедших. Г. П. Прокофьев 164