
зящие интонации шопеновской или брамсовской музыкальной речи. Ни малейшей виртуозной суеты — скорее тенденция к замедленному, рельефному «выговариванию». Порой движение совсем замирает, время почти останавливается: мгновение стоит налитое музыкой.
Таким запомнился Клайберн со времени его предыдущего приезда к нам (в 1960 году). Но, правду сказать, в нынешнюю, третью, встречу с даровитейшим американским пианистом таких моментов было меньше. То ли артист был сверх меры утомлен, то ли он слишком часто повторяет одни и те же пьесы, но в его исполнении «Посвящения» Шумана — Листа, Двенадцатой рапсодии Листа и других «коньков» его репертуара стало чувствоваться нечто «сделанное», привычное; поэзия осталась, но словно покрылась «лаком».
Впрочем, не везде. Наряду с менее удавшимися произведениями (Второй концерт Рахманинова, «Аппассионата» Бетховена, отчасти Второй концерт Брамса), наряду с памятной по нескольким впечатляющим поэтическим «находкам» (финальный эпизод!), но в целом чересчур «лиризированной» сонатой Листа были в трех выступлениях Клайберна и минуты высокого вдохновения, неподдельного обаяния. Здесь особенно хочется выделить исполнение Первого концерта Чайковского: игранное и переигранное сочинение (только что еще тринадцать раз подряд во время конкурса) прозвучало на редкость свежо, молодо, увлекательно. Какая простая и убедительная концепция, какая сила чувства, какая легкость, какое волшебство в скерцозном эпизоде второй части!
Удивительная одаренность Клайберна по-прежнему вне сомнения. Но растет ли он или стоит на месте? Этот вопрос занимает, тревожил и тревожит многих его почитателей. Со времени Первого конкурса им. Чайковского Клайберн расширил свой репертуар, выучил ряд новых крупных произведений: концерты Бетховена (пятый), Шумана, Брамса (второй), Мак-Доуэлла (второй), Рахманинова (второй), Прокофьева (третий), две сонаты Шопена, сонату Листа; некоторые из них (не все) он играет превосходно. Но самая его игра остается прежней; нового в ней слышно мало. Между тем на одном юношеском обаянии, на одной романтической искренности, на прелестном piano — pianissimo и других подобных качествах долго не проживешь — не потому, что эти качества плохи или недостаточно ценны, а потому, что оставаться свежими и впечатляющими они могут, только непрерывно изменяясь, питаясь многоразличными источниками, наполняясь все новым и новым содержанием. В искусстве устоять на месте невозможно: само «место» съедет назад. Двинется ли Клайберн вперед, расширится ли его художественный кругозор, вольются ли в его прекрасное искусство новые живительные соки?
Будущее покажет.
*
Более ясны (что не значит: более ярки) перспективы, открывающиеся перед соотечественником Клайберна — Байроном Джанисом. Из трех он, пожалуй, наиболее определившийся, в известном смысле самый зрелый, самый законченный. Это первоклассный пианист с громадной техникой, волевым темпераментом; ярким, «концертным», звуком; живым, энергичным ритмом; выразительной, тщательно отделанной фразировкой и всеми прочими достоинствами, какие требуются, чтобы занять видное место среди пианистов мира. Он отлично играет произведения самых различных стилей, поднимаясь в иные моменты едва ли не до совершенства. Так, он необыкновенно выпукло «вылепил» «Картинки с выставки» Мусоргского (трактовка, близкая толкованию его учителя, Владимира Горовица), зажег зал вдохновенным исполнением Третьего концерта Прокофьева.
Если что и можно поставить в упрек Джанису, то только одно, но весьма важное: недостаточную значительность творческой личности. Как некогда Гофман, он гораздо интереснее в области выполнения, нежели в области замысла. Ждать от Джаниса «откровений» не приходится, но его яркая, рельефная игра, его почти безупречное мастерство всегда будут радовать, завоевывать, приводить в восторг аудиторию.
*
Полная противоположность Джанису — англичанин Джон Огдон. Победитель Второго конкурса им. Чайковского прежде всего яркая художественная личность, отчетливо выраженная индивидуальность со своим «слышанием музыки» (применяю это понятие по аналогии с художническим «видением мира»). Именно это обстоятельство поначалу (еще на конкурсе) смутило, отпугнуло от Огдона некоторых слушателей. Повторилась история с Бузони, у которого тоже «первоначально... слушали внешнее, не замечая творче-
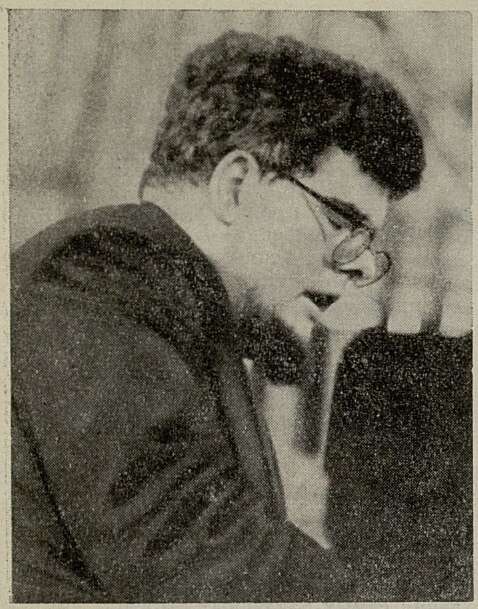
ской силы; удивлялись неслыханному совершенству технических средств, не видя, что они являются лишь выражением неслыханно сконцентрированных душевных выразительных побуждений. Публика и критика долго думали: собственно, Бузони только большой виртуоз...» (Мартинсен).
И Огдон показался части слушателей «только виртуозом». В отличие от огдоновских исполнительских концепций эта сторона его игры встретила сразу единодушное и восторженное признание. Темпы Огдона, его пассажи, трели, октавы, легкость, с какой «преодолевались» (слово в данном случае совсем неподходящее) любые технические трудности, наконец, давно не слыханное разнообразие красок фортепианного звучания в Первом концерте Листа и Первом Чайковского, в пьесах Равеля и Бузони, в «Исламее» Балакирева, в сонате, «Кампанелле», «Мефисто-вальсе» Листа буквально ошеломили видавшую виды московскую публику. Все, кажется, сошлись на том, что подобная техника не «импортировалась» к нам из-за рубежа едва ли не со времен «самого» Бузони.
Но Огдон вовсе не «чистый» виртуоз, а большой, оригинально мыслящий музыкант. Его трактовка концерта Чайковского, обеих сонат и «Мефистовальса» Листа, «Ундины» и «Скарбо» Равеля, Пятой сонаты Скрябина и ряда других пьес была удивительна по цельности, демонизму, творческой силе. В особенности Си-минорная соната и «Мефисто-вальс» Листа запечатлелись в памяти как шедевры исполнительского искусства.
Почему же выдающиеся качества Огдона-интерпретатора, Огдона-художника не дошли до известной части слушателей? Не только из-за догматизма, из-за чрезмерной приверженности к «букве», которую артист кое-где приносил в жертву «духу», идейному замыслу произведения. Главную роль тут сыграла укоренившаяся у иных привычка слушать музыку слишком «близко», «в лупу», деталь за деталью, фраза за фразой, интонация за интонацией. Огдон же мыслит и играет «этажами», широкими штрихами, «большими отрезками как частями еще большего целого» (Бузони). Чтобы услышать, понять такую трактовку, надо переменить привычную слуховую «точку зрения», научиться слушать «издали», охватывая «одним взглядом» крупные музыкальные построения и их соотношения. Не все это умеют.
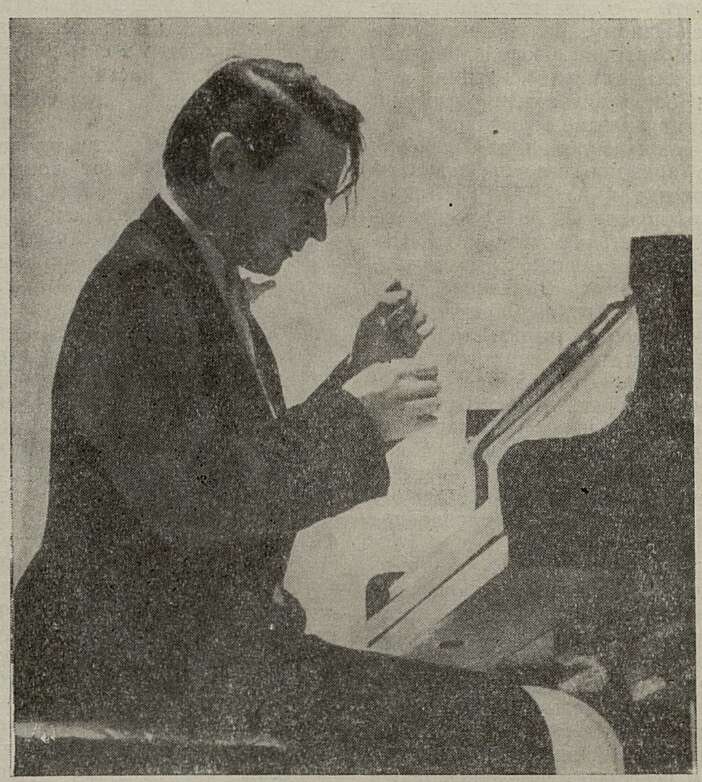
Как видит читатель, в пианизме Огдона действительно немало общего с эстетическими и техническими принципами Бузони; не случайно английский пианист так охотно играет редакции, транскрипции и оригинальные сочинения знаменитого итальянского виртуоза. Можно сказать, что Огдон в известной мере «происходит» от Бузони1 , как Клайберн — от Рахманинова, Джанис — от Гофмана. Конечно, это, как уже было сказано, не значит, что три недавно слышанных нами пианиста тождественны по индивидуальности или равны по масштабу своим великим предшественникам. Но некоторый свет на майско-июньские концерты и возникшие вокруг них споры эти сопоставления, возможно, проливают.
Г. Коган
_________
1 Один из учителей Огдона, Эгон Петри, был долгие годы учеником Бузони.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- У человечества есть будущее! 5
- Пусть звенят песни радости! 5
- Говорить правду! 6
- Люди идут за солнцем... 6
- Музыканты мира, за круглый стол! 7
- Объединяйтесь, миллионы! 7
- Война — нет, музы — да! 8
- Пусть поют колокола мира! 8
- Первый современный 11
- Развивать свой стиль 20
- «Все будет хорошо» 25
- Симфонические гравюры Кара Караева 36
- Швейк на оперной сцене 41
- В Алма-Ате... 44
- Об опере, которая не была написана 45
- Прокофьев играет в Москве 52
- О музыкальном языке А. Онеггера 56
- Пути и перепутья 61
- Радостная победа 66
- Размышления после конкурса 70
- Слушая пианистов... 73
- М. Дейша-Сионицкая 84
- Девятая симфония Малера 91
- Три пианиста 92
- Поэма «Памяти Сергея Есенина» в рабочей капелле 95
- Александр Ведерников 95
- Интересный концерт 96
- Играют студенты Казанской консерватории 96
- Гости с Верховины 96
- Концерты органистов 97
- Хор из Чили 98
- Концерты в городах. Ленинград 98
- Авторский концерт. Ярославль 100
- Поет болгарская певица 100
- Верди и Гутьеррес 101
- У потомков Джангара 108
- Воспитание чувств 111
- Из школы в жизнь 112
- О том, что нас волнует 115
- «Интернационал» в нашей стране 117
- Песни испанского Сопротивления 125
- Мои впечатления о советских певцах 131
- Национальный гений 133
- С Дебюсси за роялем 138
- Пестрые страницы 146
- Наши друзья из Киргизии 151
- Посланцы казахской земли 151
- Музыка Северного Кавказа 153
- Баку, Ереван, Махачкала 153
- Юбилей «Кероглы» 154
- Вести со смотра 155
- Третий международный 155
- Добро пожаловать в «Страну Пионерии»! 156
- Сороковой сезон бетховенцев 157
- О труде, о подвигах 157
- Их нынче восемнадцать 158
- Оперные вечера гнесинцев 158
- Добрый путь вам! 159
- «Сказки Гофмана» 160
- Таллинская «Музыкальная весна» 160
- Подлинный друг 161
- Записывается Марио дель Монако 162
- В защиту школьных хоров 163
- Премьеры 163
- Пора подумать о покупателе 164
- Побольше бы таких! 165
- Памяти ушедших. М. И. Вериковский 166



