...Это было поразительное зрелище: на сцене ожили герои полотен мастеров раннего Возрождения с их будто нарочитой недоговоренностью жестов, поз, за которыми скрывалась недоговоренность чувств и мыслей. То, что ощущаешь и в «Мужском портрете», и «Святом Себастьяне» Антонелло да Мессина, и в «Портрете Федериго да Монтефельтро», и «Царице Савской» Пьерро делла Франческа, и в «Женском портрете» Доменико Венециано...
Каждый жест предельно точен и графически определен, каждое па строго ограничено в диапазоне и амплитуде движений. Малейшее отклонение ведет к разрушению образа, к исчезновению характера (об этом, к сожалению, далее тоже придется говорить).
Такая отточенность и конкретность пластики, богатейшая и очень своеобычная «речь» хореографа, способность найти интереснейшие символические сочетания поз — великолепные качества таланта Виноградова. К сожалению, в даном случае они явно проходили «мимо музыки».
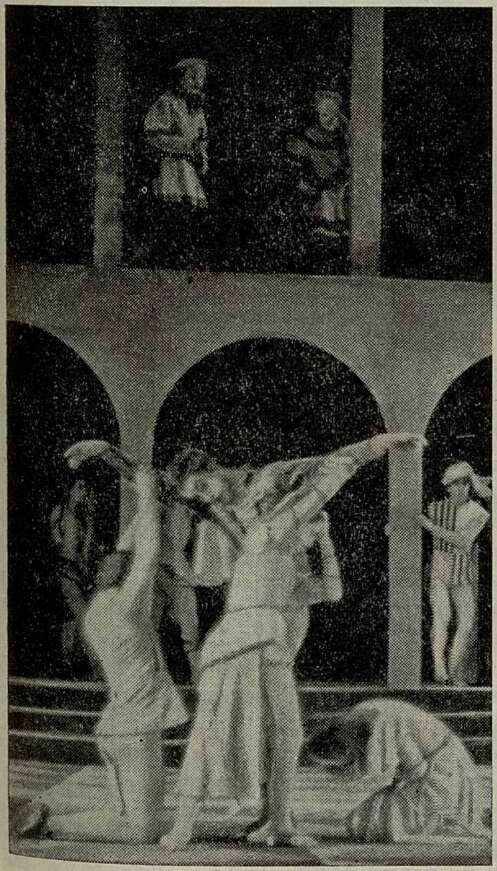
Смерть Меркуцио
От образов Прокофьева хореографию Виноградова отделяла «пропасть» рациональной рассудочности, раз и навсегда найденной меры внешнего выражения эмоций. Резко бросалось в глаза несоответствие внутреннего наполнения музыкальных образов и пластического решения их на сцене1.
Сколько упругой искристой энергии, сколько солнечной силы и звенящей радости в знаменитой первой теме героини — «Джульетта-девочка»! Эти силы, пока еще находящие выход в восторженном мировосприятии, в радости бытия — залог будущего чувства, победившего все преграды. Уже здесь, в момент первой встречи с Джульеттой, ощущаешь незаурядность натуры героини, полноту ее эмоций. Прокофьевская Джульетта в этот момент еще совершенно неискушенное существо, безмятежно верящая в свое счастливое будущее и вся как-то устремленная к нему. Это в музыке. А на сцене совсем другой образ: чуть тяжеловатый, укрупненный в движениях, более рассуждающий, нежели чувствующий.
Трудно требовать от виноградовской Джульетты эволюции характера. С первых же шагов она знает уже свою судьбу и примиряется с ней. Только в какой-то момент, в самом финале, когда Джульетта отказывается выйти за Париса, прорывается протест ее против ужасающего насилия. В пластике вдруг появляются экспрессивные «выкрики». На какой-то момент перед нами возникает живой человек с его мучениями, страданиями... И вновь, уже в следующем номере — «Джульетта одна» — рассудочный холодок, недоговоренность, строгая определенность поз, жестов, движений...
Хочу напомнить: эпизод «Джульетта отказывается выйти за Париса» (№ 41) начинается с первой взлетающей гаммки темы «Джульетта-девочка». То есть у Прокофьева силы протеста вырастают из дерзновенной радости мироощущения жизнерадо-
_________
1 Может быть, это спорно, но мне кажется, что Виноградов ошибся, так сказать, в «хронологии» своей стилизации. Танцы его «дышат» пластикой живописи раннего Возрождения, и действие балета таким образом переносится из конца XVI века в середину XV. Между тем это одинаково далеко и от прокофьевского толкования трагедии, и от самого Шекспира. Достаточно напомнить о колоритной речи шекспировских героев, о таких специфически «возрожденческих» персонажах, как Кормилица (которой, кстати, — и это не случайно — нет вообще в виноградовском балете), о духовнике, помогающем возлюбленным, о бесшабашных друзьях Ромео...
Тенденция же характеризовать прокофьевскую героиню через образы Ботичелли ведет свое начало от Г. Улановой, от ее непосредственного, простого и искреннего танца, в чем-то действительно созвучного с характером живописи великого флорентийца. Но сегодня для Виноградова менее всего характерна та естественная простота, которая и родила эту ассоциацию.
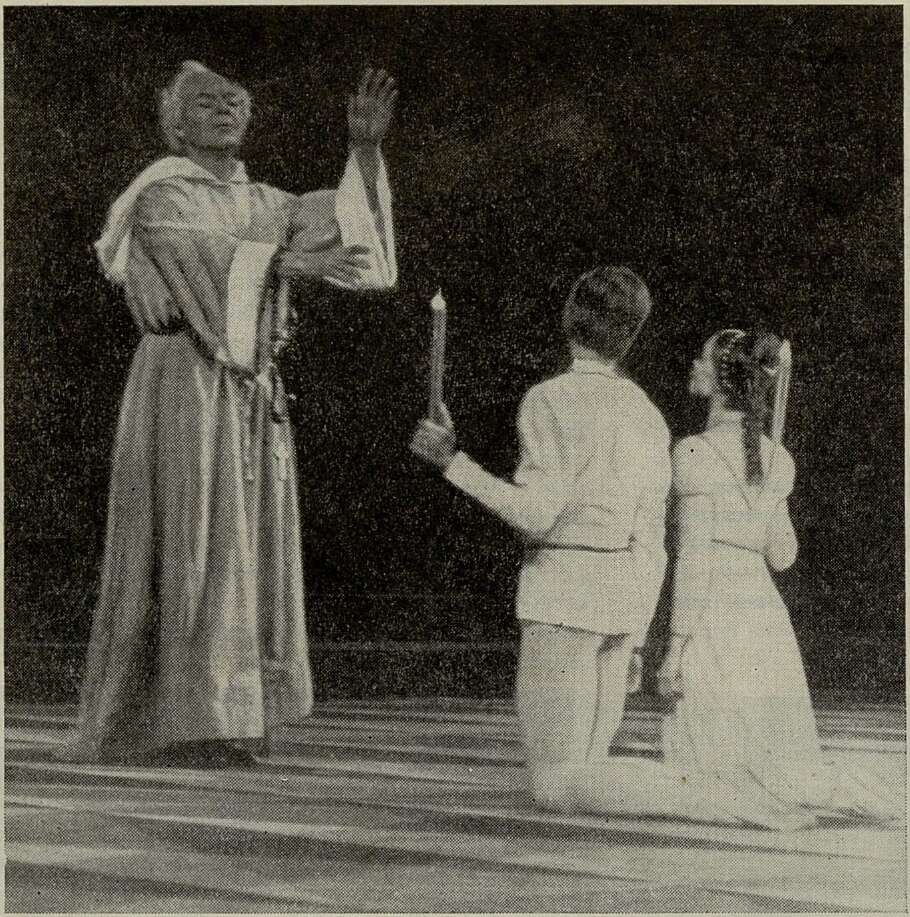
Сцена обручения
стного подростка. А у Виноградова в пластике рвется эта логическая нить, а потому рассыпается драматургия образа.
Естественно, что именно Джульетта претерпела наибольшие изменения в связи с общей концепцией постановки. Ведь для шекспировской или прокофьевской героини, воспитанной весьма далекой от строгих правил «света» Кормилицей, сам факт неожиданной встречи с Ромео еще не несет в себе того рокового начала, как для виноградовской Джульетты. У Шекспира и Прокофьева, мне думается, Джульетта поначалу такая же, как и ее сверстницы. И лишь потом сила чувств поднимает ее над всеми.
У Виноградова же Джульетта сразу, с первых шагов, чуть ли не сознательно противостоит всем.
...Тяжелым и мрачным танцем рыцарей открывается бал в доме Капулетти. Будто в заклятии подняв левую руку, широко и властно шагая, тяжело движутся рыцари и их дамы. Массивными, глухими ударами накладываются их шаги на музыку. Но вот наперерез замкнутому круговому движению легким шагом словно не бежит, а летит Джульетта. Летит в противоположном направлении, будто противопоставляя свой стремительный бег мрачной поступи рыцарей и дам.
Что это? Предчувствие исключительности своей судьбы. Как еще можно трактовать такой эпизод?
Вот так, уже с самого начала Джульетта — сложившийся образ, в вершинном его выражении. И потому в дальнейшем нет ощущения нарастании действия, развертывания характеров. Все быстро останавливается, застывает. Вот откуда многочисленные разговоры о «холодности», излишней рациональности хореографии Виноградова. Думаю, что это не просто холодность. Она следствие избранной им стилистики — сдержанной, недоговоренной пластики, присущей живописцам раннего Возрождения, — выдержанной на протяжении всего шекспировского спектакля. И в этом, помимо всего прочего, драматургический просчет балетмейстере
Мне кажется, что, наделенный от природы великолепным пластическим чутьем, Виноградов сам не замечает, как поиски новых поз, движений, же-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Мыслить гражданственно — в творчестве и теории! 5
- Направленность таланта 15
- «Так шагай с нами рядом...» 21
- Поздравления из-за рубежа 28
- Новый струнный квартет 29
- Вопросы психобиологии музыки 39
- В помощь ладовому анализу 45
- Александр Бенуа и музыка 49
- Письма И. Стравинского Н. Рериху 61
- Письма М. Равеля И. Стравинскому 68
- На спектаклях кировцев 71
- Болгарская опера на бакинской сцене 75
- Прокофьев в Новосибирске 79
- Игорь Смирнов ставит балет 85
- По следам письма артистов Большого театра 90
- И мастерство и вдохновенье... 93
- Новое содружество артистов 95
- Искусство фуги 96
- На концерте Юрия Гуляева 97
- «Шампа — цветок Лаоса» 98
- Ефрем Курц и Элен Шаффер 100
- [...Третий Международный конкурс им. Чайковского] 101
- Камерный концерт Александра Бротта 103
- Из дневника концертной жизни 104
- Внимание индивидуальности 107
- Интерпретация «Утеса» Шебалина 110
- Еще о подготовке хормейстеров 113
- Брестские впечатления 115
- Искусство масс 120
- Когда молодежи интересно... 125
- В лесном краю 133
- Посвящено творчеству Шостаковича 138
- Благородная миссия 145
- Стоит ли спорить? 147
- От редакции 150
- Коротко о книгах 151
- Новые грамзаписи 152
- Хроника 153



