Поэтому давайте говорить — «исполнитель не переводит и не интерпретирует: он дает музыке реальную жизнь». Чтобы стать живой, музыка должна получить форму, должна звучать. При помощи исполнителя она приспосабливается к изменчивым вкусам и восприятиям различных эпох.
Поль Валери высказывает даже такое мнение: «Произведение, которое еще только написано, пока лишь номинально существует. Это чек, выданный таланту его будущего исполнителя». Далее он говорит: «Партитуры представляют собой в действительности не что иное, как условные знаки. Каждый из них требует соответствующего ему действия. Качество этих действий, их последовательность и их таинственная взаимосвязь, в свою очередь, целиком зависят от того, кто эти действия совершает, превращая условные знаки в реальное произведение»1.
Вирджиль Томсон2, сравнивая однажды партитуру с «планом для исполнения», сказал: «Исполнение музыкантом сочинения — это такое же индивидуальное свершение, как возведение строителем здания по плану архитектора». И в заключение добавил: «Музыка, как и архитектура, требует с самого начала тесного сотрудничества».
Здесь, вероятно, уместно рассказать историю, переданную мне сыном Эжена Изаи. В 1886 году артист впервые исполнил сонату Сезара Франка, написанную для него и ему посвященную. Композитор находился среди слушателей, и кто-то3, повернувшись к нему, сказал: «Это великолепно, но он не считается с Вашими указаниями темпов». «Да, — ответил Сезар Франк, — я знаю... но прав-то он...» Нам, исполнителям, доставляют самое большое наслаждение поиски того, «что не может быть написано», например, прослеживание стилистических нитей, ведущих от одного периода к другому, от одного композитора к другому, от одного произведения к другому. По-видимому, наиболее просто эту способность исполнителя характеризует выражение «чувство стиля». Очевидно, некоторые произведения обязаны своим существованием духу соревнования — между произведениями двух композиторов, но, может быть, также и между сочинениями одного автора. Обнаружение таких связей является одним из наиболее ценных стилистических указаний для исполнения.
Когда я оглядываюсь на долгие годы моей музыкальной деятельности, я испытываю особенную благодарность за привилегии первого исполнения новых произведений, которые попадали ко мне без «исполнительских традиций». Эти привилегии доставили мне самую большую радость. Но в моей памяти живет также и исполнение всех десяти сонат Бетховена в трех концертах подряд, шести сонат Баха тоже в трех, следующих друг за другом программах, трех сонат Брамса в один вечер, а также и цикла из тринадцати произведений нашего века1. Эти события живы в моей памяти благодаря тому, что они стимулировали способность представлять цикл произведений, например 10 сонат, как единое целое, в котором каждое играет свою особую роль.
Изобразительное искусство не нуждается в посреднике. Возможно, что в один прекрасный день и композиторы будут переводить свои сочинения прямо в электронные девизы и перестанут нуждаться в наших инструментах и в наших услугах, но это — времена далекого будущего... Поэтому роль посредника сохраняется. Композиторы всегда были готовы считать эту роль значительной. Даже пропагандисты чисто объективного стиля игры, приверженцы так называемой Neue Sechlichkeit должны это признать. Стравинский однажды сказал: «То, что имеет наибольшее значение в музыке, не может быть записано». (Это важное признание со стороны композитора, который, говоря об исполнителе, чаще всего употребляет слово «executant»; он предполагает, что именно выполнять написанное и должен исполнитель.) Лишь при посредстве исполнителя можно услышать ненаписанное, и на нем лежит обязанность вдохнуть в музыку жизнь.
Возвращаясь к заглавию этой статьи, я мог бы пойти дальше и сделать еще одно изменение. Я люблю употреблять слово «слушатели» вместо «аудитория», так как единственная аудитория — та, которая активно слушает, а не та, которая пассивно слышит. Но пассивность слушателя нельзя устранить одной лишь заменой слова. Мы не только вынуждены считаться с присутствием в аудитории пассивного слушателя, с лицом, как охарактеризовал его Дебюсси в концертных рецензиях, «серым и скучным», — мы должны также признать, что он имеет влияние на вкусы своего времени.
Вирджиль Томсон приписывает пассивности слушателей многие беды нашей музыкальной жизни, такие, как «преувеличенный культ виртуозного мастерства», исключительную приверженность к «50 пьесам» и, как следствие этого, сужение нашего репертуара.
_________
1 М. Пиншерль. «Мир виртуоза». Нью-Йорк. Изд-во «Нортон и Компания».
2 В. Томсон (1896) — американский композитор и дирижер.
3 Речь идет о скрипаче Армане Паране (1863–1934), главе квартета, концертмейстере Концертов Колонна, преподавателе по классу скрипки «Schola Cantorum» (примеч. ред.).
1 В их числе находились три сонаты Прокофьева (прим. ред.).
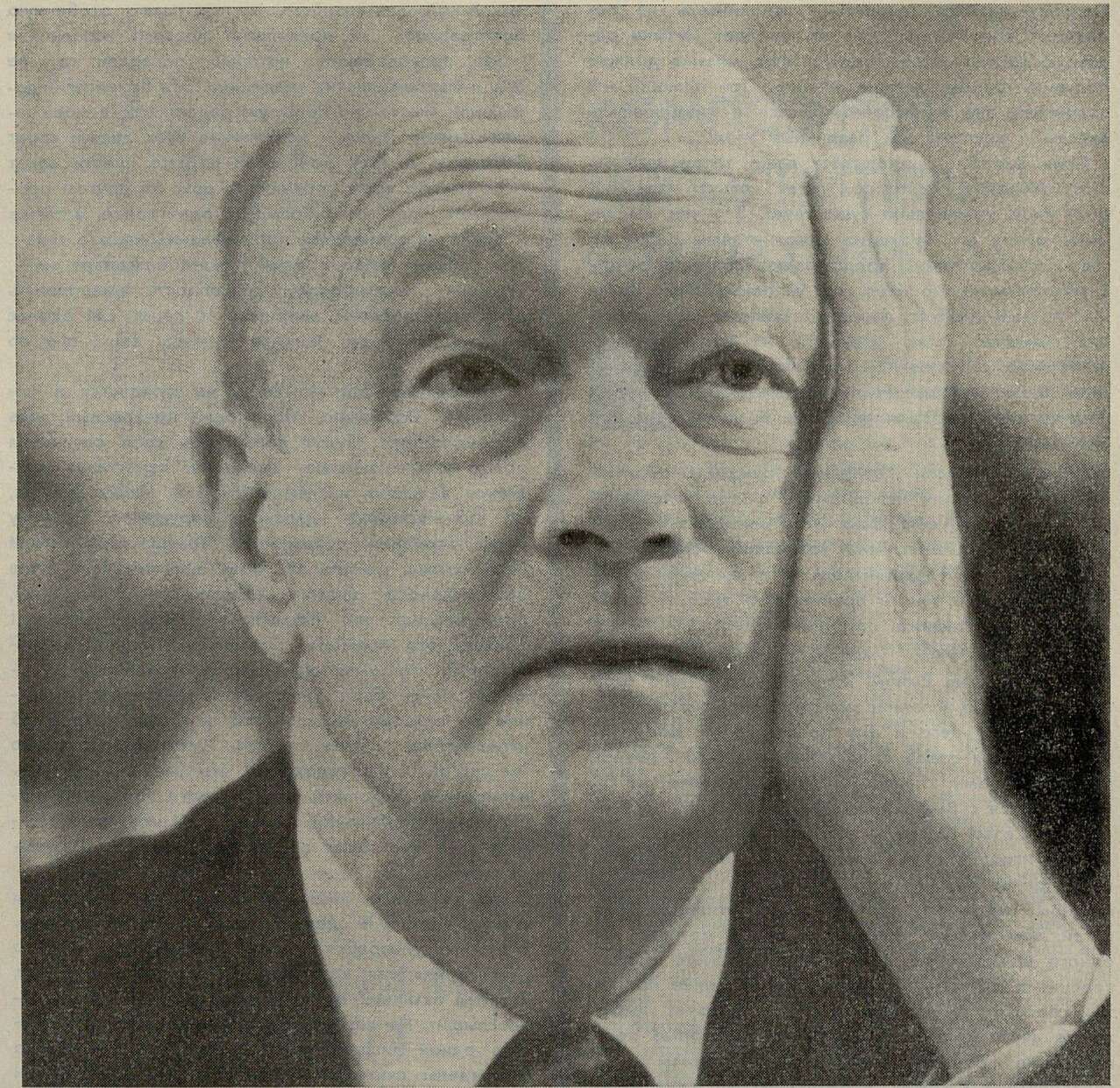
Кто-то сказал, что слова «я знаю, что я люблю» зачастую подменяют понятие «я люблю то, что я знаю», а из этой пассивности рождается нетерпимость. Совсем недавно я столкнулся со следующими воспоминаниями музыкального обозревателя, описывающего поведение студентов в концерте, который Барток и я давали в начале тридцатых годов в Оксфордском университете: «Аудитория проявила предельную нетерпимость, покидая зал по каплям, превращавшимся при особенно своеобразных эпизодах (во Второй сонате) в поток угрожающих размеров. Концерт, начавшийся в переполненном зале, закончился в зале на три четверти пустом». А ведь это был интеллектуальный авангард молодежи! Истинная правда о реакции аудитории обнаружилась десятилетиями позже. Статья, опубликованная в Кэмбридж Ревю (октябрь 1961), вспоминает «тревогу и безнадежность, возникшие в связи с появлением Третьего квартета Бартока в 1932 году».
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Вдохновляющие перспективы 5
- С трибуны теоретической конференции 15
- С трибуны теоретической конференции 18
- С трибуны теоретической конференции 22
- От редакции 25
- Взглядом современника 34
- Романтическая устремленность 39
- Семь вечеров — семь спектаклей 43
- На студенческих спектаклях 55
- «Сказание о граде Китеже» в Большом театре 59
- Купюры и постановочная концепция 61
- Театр на Красной площади 66
- Забытый музыкант 74
- Будить лирическое чувство 78
- Образная речь педагога 83
- Ударные в современном оркестре 86
- Любовь слушателей обязывает 92
- Почему мы не согласны с Борисом Штоколовым? 94
- Двадцать один хор Шебалина 96
- Из дневника концертной жизни 97
- Подводя итоги... 101
- На подъеме 103
- Право слушателя — право художника 106
- Звезды должны быть ярче 107
- Почему пустуют залы? 109
- Композитор — исполнитель — слушатели 112
- Послесловие 118
- Софийский музыкальный 121
- Пламя за Пиренеями 125
- На музыкальной орбите 137
- Вклад в шуманиану 143
- Коротко о книгах 146
- Вышли из печати 148
- Грампластинки 148
- Новые грамзаписи 149
- Хроника 151



