водились декады советской музыки, циклы вечеров классической музыки. Новые формы музыкально-исполнительской деятельности, программа развернутой пропаганды советской музыки не могли не увлечь меня. В концертных выступлениях я нашел необъятные возможности удовлетворения ненасытной и естественной в мои годы жажды творческой работы.
Другими словами, я тут вспомнил студенческую пору, концерты самодеятельности и строгие наставления Н. Райского. Многим обязан я Назарию Григорьевичу! Повторю: он был блестящим знатоком вокального репертуара, уделял много настойчивого внимания развитию в своих учениках вкуса и любви к камерному исполнительству. В его классе я пел романсы Римского-Корсакова, Танеева, Шуберта, Брамса, долго работал над арией Тамино из «Волшебной флейты» Моцарта, очень любил «По над Доном» Мусоргского.
Благодаря Назарию Григорьевичу в моем концертном репертуаре никогда не было произведений вроде «Тишины» Кошеварова или «Сладким запахом сирени» Плотникова, которые в те времена иными певцами считались необходимыми для достижения успеха, «бисовым коньком». Запой я что-либо подобное — не сомневаюсь, — он выгнал бы меня из своего класса. Если же случалось, что по молодости лет, увлекшись внешним эффектом, я просил что-либо в этом роде, то Райский корчил такую гримасу, от которой у меня сразу же отпадал интерес к данному «шлягеру».
Многое дали мне для развития вкуса и познания «большой» музыки занятия с И. Соколовым, не говоря уже о Станиславском, который нередко вместо сценических этюдов работал с нами над романсами Чайковского, Рахманинова, заставляя на их музыкальной основе рисовать психологические картины: он учил общаться с невидимыми партнерами, чувствовать, понимать и доносить слово во всей его многообразной выразительности, искать его различные психологические оттенки. Все это подготовило меня к очень важному шагу — к концертной эстраде.
Одним из первых моих уже профессиональных концертных выступлений было участие в бригаде по обслуживанию крымских курортов в 1926 году. В ней были такие замечательные актеры, как Поль и Кара Дмитриев из Московского театра сатиры, Виктор Петипа. В это время в Крыму находился В. Маяковский, который потом безжалостно разругал наши программы, делая обзор крымской художественной жизни в августовском номере какого-то из журналов того же года. Исключение он сделал, насколько помню, только для меня, предсказав перспективное будущее.
Маяковский вообще не любил ходить на концерты. Но как-то раз, помню, выйдя на эстраду, я увидел его огромную фигуру. Маяковский стоял в стороне, прислонившись к входной двери и приготовившись внимательно слушать. Зная его прямой характер и неприятие сборных концертов, я не только почувствовал страшное смущение, а просто оторопел, не сразу решившись запеть. И как же я был рад, когда на следующий день Маяковский сам подошел ко мне, похвалил вчерашнее исполнение и пригласил меня сыграть с ним партию на бильярде!
Наслышавшись об его бильярдных рекордах, я предупредил, что буду плохим и скучным партнером: какой, право, интерес разбить противника в два счета! Владимир Владимирович ответил:
— Ничего, я дам вам вперед четыре шара.
И мы пошли. Он со страшной силой разбил пирамиду, предупредив, что проигравший полезет под бильярд и что-нибудь там споет. Мне ничего не оставалось, как принять это условие. Затем Маяковский снял четыре шара, висевших над лузами, и положил их ко мне. Дальше, к моему полному изумлению, партия сложилась для него неудачно. Случилось так, что почти после каждого удара он «подставлял» мне очередной шар, который я без труда забивал. В результате я выиграл и не успел опомниться, как Владимир Владимирович полез под бильярд и запел басом песню Индийского гостя!
Как-то раз Маяковский пригласил меня на вечер в один из санаториев, где он читал свои стихи. Откровенно говоря, я не очень хорошо тогда понимал его поэзию. Но, услышав, как он сам читает свои произведения, неожиданно увлекся многим в них. Все стало яснее, отчетливее. Наша короткая встреча с Маяковским особенно запала мне в память еще потому, что он открылся мне с какой-то новой для меня стороны — как очень гуманный, лиричный, даже немного застенчивый человек.
Тогда же в Крыму я впервые приобщился к работе с советскими композиторами. Начало этому положила встреча с Исааком Осиповичем Дунаевским. Я пел в концерте его романсы и песни под аккомпанемент самого композитора. Помню, что это были произведения, пока, кажется, неизвестные. Два из них он тогда же посвятил мне, и их оригиналы, написанные рукою композитора, хранятся у меня: «Восточный романс» в условно ориентальном стиле, и «Скажите ей» в духе старинного русского романса. Третье произведение, помню, было на тот же текст, что и романс Брамса «Воскресное утро». Все это, конечно, носило еще очень подражательный характер и было далеко от стиля зрелого Дунаев-
ского. Но пианист он был замечательный, аккомпанировал проникновенно, вдохновляя певца своим сверкающим артистизмом. Мы с ним тогда очень подружились (но встретились в Москве только через три года... на бегах!).
Затем я много пел на Тбилисском радио советские песни и романсы, среди них была «Мать» A. Давиденко, романсы В. Белого и М. Коваля, ужасный романс Л. Лебединского «Рубанок»:
Спозаранок
Мой рубанок,
Лебедь, лебедь
Мой родной...
Многие из них быстро сходили с репертуара, являясь данью времени, рапмовским тенденциям. Но в Тбилиси же я познакомился с талантливыми произведениями грузинских авторов. Пел знаменитое «Таво чемо» из оперы 3. Палиашвили «Даиси», не менее известное певучее «Урмули» Д. Аракишвили (из оперы «Сказание о Шота Руставели»), романсы B. Долидзе и другие.
Признаюсь, тогда пел я все это не из сознательного стремления пропагандировать именно советских композиторов, а просто потому, что нравилась музыка, а иногда и просто по просьбе работников радио.
Но уже в Москве, когда внутри Большого театра поднялась борьба за советский репертуар, я сознательно обратился к произведениям советской музыки.
У меня установилась творческая дружба с рядом авторов. Мы встречались, работали над вокальной партией, часто поправляли тексты, продумывали оттенки, вместе создавали исполнительскую трактовку. С некоторыми композиторами я сохраняю дружеские связи и по сей день. Например, с Хренниковым или Новиковым. Под аккомпанемент Хренникова я пел его бёрнсовский цикл (эти песни затем записали вместе с композитором), «Песню о Москве», песни Леньки из оперы «В бурю», песни из музыки к «Дон Кихоту», «Много шума из ничего» (в 1963 году я участвовал в авторском концерте Хренникова во Дворце съездов в честь его пятидесятилетия).
Уже в 1936 году я выступил в Колонном зале Дома союзов с программой, целиком посвященной произведениям советских композиторов. Слушатели так тепло ее приняли, что по внешнему успеху концерт ничем не отличался от моих выступлений с классическим репертуаром.
Годом позже мы с С. Мигаем приняли участие в проведении первой декады советской музыки. В нашем концерте в Большом зале консерватории я пел посвященную мне песню Ан. Новикова «Отъезд партизан», песни М. Блантера, 3. Компанейца, Б. Мокроусова, романсы Ю. Шапорина, пушкинские романсы Г. Свиридова, произведения грузинских авторов. Найдя новую сферу «приложения сил», я, однако, не всегда испытывал большую творческую радость. В советской вокальной музыке тогда преобладала форма массовой песни, которой, конечно, нельзя было заполнить программу сольного концерта: получилось бы очень однообразно, да и хороших песен для лирического голоса было немного. В камерной лирике доминировал декламационный стиль. А мне хотелось петь, да и публика от меня ждала того же, то есть прежде всего пения. Поэтому параллельно я стал усиленно работать над расширением своего классического репертуара. Он составил программы моих первых московских концертов в 1932 году (два в Малом зале консерватории, затем в Большом зале).
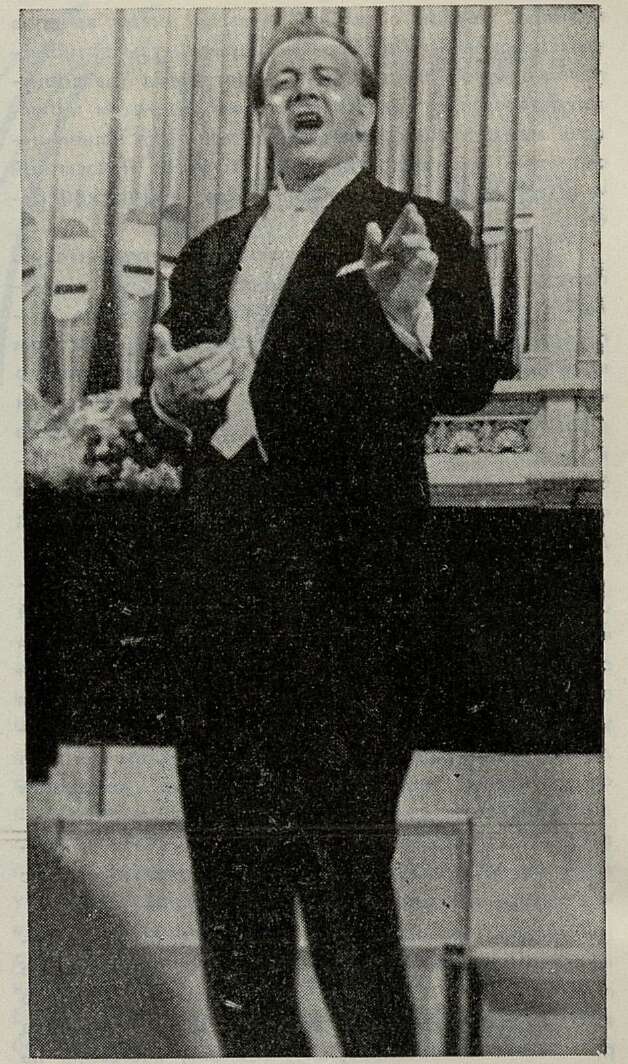
Фото 1964 года
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 6
- Песня о Ленине 7
- На волне революции 15
- Воссоздавая облик поэта... 25
- Его музыка живет 31
- Волнующие документы эпохи 34
- Величайший мелодист XX века 43
- От эскизов — к оперному клавиру 57
- В работе над «Войной и миром» 61
- Высокое воздействие 65
- Оперы и балеты Прокофьева на сценах страны 68
- Из автобиографии 70
- Памяти друга 77
- Навстречу 50-летию Октября. — Рахманиновский цикл. — Ленинград: Месса Моцарта. — Чешский мастер. — Певец Парижа. — Из дневника концертной жизни. — Гости из-за рубежа 84
- Песни-баллады 95
- В отрыве от практики 102
- Нужна координация 105
- И петь, и слушать 107
- Больше внимания методике 109
- Разговор продолжается 111
- Новое в музыкальном воспитании 114
- Юным скрипачам 122
- Вприпрыжку, « У памятника», «Летнее утро» 123
- Хальфдан Хьерульф и его песни 125
- «Альфеланд», «В горах» 130
- Из опыта друзей 133
- Встречи на острове Свободы 139
- У нас в гостях 141
- Талантливое исследование 142
- Первая монография 144
- Обо всем понемногу 148
- Нотография 150
- Хроника 152



