сен1. А ведь тут родина Мусоргского, места, где он прожил все детские годы и неоднократно бывал, уже прочно вступив на путь композитора!
Итак, сели в поезд Ленинград — Полоцк и через 12 часов прибыли в город Торопец. Ему почти 950 лет. Когда-то он был заселен славянским племенем кривичей. На окраинах города еще до сих пор заметны остатки грандиозного вала, служившего по преданию для защиты от чужеземных набегов. Сейчас это один из небольших районных центров Калининской области. На каждом шагу здесь соперничают старое и новое, живая история и современность. Асфальтированная главная улица Ленина и рядом немощеные, тихие улицы. Двух- и трехэтажные новые каменные дома и одноэтажные, за высоким забором и с резными ставнями домики, как бы целиком перенесенные из старого, уездного купеческого Торопца XIX века. Два кинотеатра и Дом культуры и тут же около десятка церквей, впрочем не имеющих особых архитектурных достоинств. И пожалуй, самый разительный пример. Половину общего числа песен, собранных в Торопце и окружающих местах, мы записали от А. Ф. Конюховой, которая работает уборщицей в Торопецком Доме пионеров: в самом центре города мы услышали почти восемь десятков песен, многие из которых представляют большой художественный интерес и редко встречаются даже в деревне! Память этой уже немолодой женщины удивительна: она напела нам песни, слышанные ею в далеком детстве, причем лишь однажды. Впрочем, с такими истинными самородками нам приходилось встречаться и в деревне, хотя поиск хороших певцов, или, как здесь говорят, «песнехорок», был делом далеко не легким. Но всюду нам стремились помочь, понимая важность дела, и если удалось сделать ценные находки, то немалая в том заслуга всех этих отзывчивых людей.
К сожалению, в самом Торопце не сохранилось никакой памяти о Мусоргском. Где находится (или находился) дом, в котором он жил, останавливаясь по своим делам в городе, никто уже не знает. И лишь одна улица Мусоргского напоминает о великом композиторе.
Из Торопца путь наш лежал к Жижицкому озеру, на берегу которого расположено село Карево. Еще Каратыгин обратил внимание на живописность здешних мест. По словам очевидцев, — пишет он, усадьба Мусоргских находилась на склоне высокого холма, полого опускающегося к озеру. Вид отсюда действительно изумительный: широкая гладь озера (6600 га, в лесистых островках) внизу, а кругом безбрежная ширь полей. Впрочем, по свидетельству Каратыгина, в 1910 году усадьбу (или, вернее, место, где она была) окружал большой фруктовый сад и тут же вплотную подступали густые леса. О саде и мы слышали от местных жителей (яблоневый, вымерз в 1939 году).
В Кареве лишь две семьи — Прокошенко и Иванова — являются местными, коренными. О Мусоргском слышали, конечно, все, а в одном из домов, где живут приветливые старик со старухой Горчаковы — переселенцы из Ивановской области, мы увидели на стене репродукцию с известного репинского портрета. Коренные каревские жители сами ничего не помнят о Мусоргском, однако кое-что из рассказов стариков нам передавали. (В 1942 году умер девяностолетний старик — последний, кто, по словам его дочери, знал Мусоргского). Однако сами рассказчики предупреждали, чтобы мы не особенно верили всяким легендам: живых-то свидетелей уже нет. Еще, бывает, находятся ловкачи, которые возьмут какую-нибудь вещь да и выдадут ее за принадлежащую Мусоргским. Так произошло со шкафом, приобретенным Великолукским краеведческим музеем.
После всех расспросов о том, где стоял дом Мусоргского, нам указали... три места в окружности радиусом метров 150–200. Заметны лишь остатки фундамента, определить же, в каком месте стоял дом, смогла бы, наверное, лишь археологическая экспедиция. Нам сказали, что на прежних фундаментах строили новые дома, которые теперь уже сгорели или разрушились. Можно предполагать, что усадьба Мусоргских была расположена там, где несколько лет назад заложен был памятник композитору.
Кстати, о памятнике: место выбрано удачное, отсюда открывается широкая панорама окрестностей, и памятник будет виден отовсюду и издалека. Но когда будет? Заложен он уже года три-четыре назад, и, вероятно, предполагалось открыть его к 125-летию со дня рождения композитора. Юбилей прошел, а памятника нет. Кто в этом виноват, мы не знаем, но хотим напомнить об этом печальном факте. Обелиск на месте закладки постепенно разрушается, штукатур-
_________
1 Единственная специальная публикация торопецких песен осуществлена 100 лет назад (см.: М. Семевский. Торопец (1016–1863 гг.) Записки Русского географического общества, книга 2, 1864, стр. 9–50, 122–220), но она полностью лишена музыкальных записей. Торопецкие напевы, собранные столетие назад на берегу Жижицкого озера помещиками М. В. и А. В. Цветковыми, никогда не публиковались (хранятся в рукописном архиве в библиотеке им. В. И. Ленина в Москве).
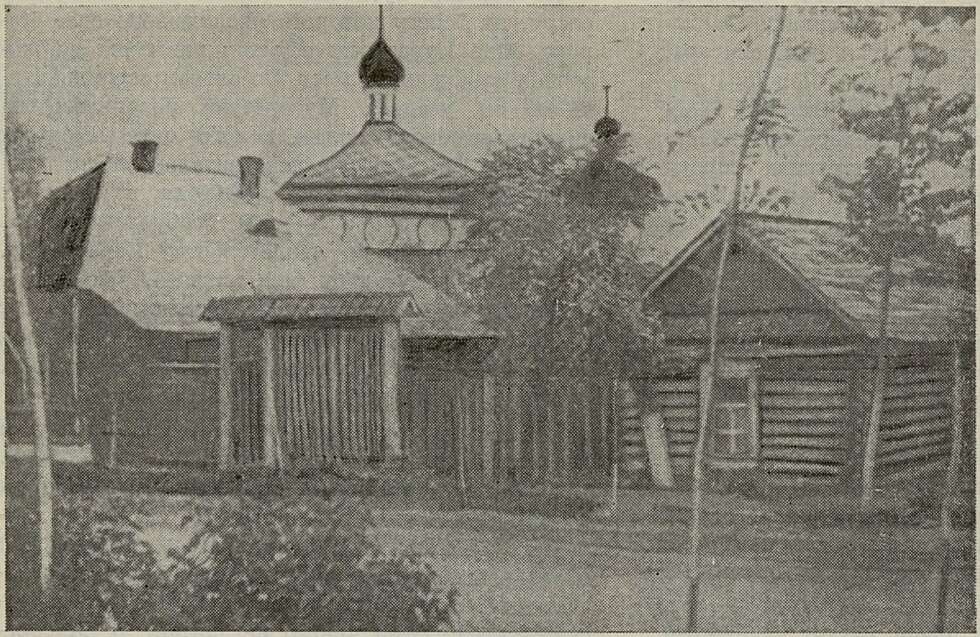
Типичный уголок Торопца
ка, местами обвалившаяся, обнажает краснеющие кирпичи. Хулиганами сорвана табличка с надписью, а с задней стороны детская рука неуверенно нацарапала мелом: «Модест Петрович Мусоргский». Все это произвело на нас удручающее впечатление. Неужели Мусоргскому по-прежнему не везет? Неужели хотя бы одного монумента на своей родине он не заслужил? Хочется верить, что эти строки попадутся на глаза людям, ответственным за возведение памятника, и помогут сдвинуть дело с мертвой точки.
Будучи в Кареве, мы ревниво вспоминали, с какой любовью сохраняются Дом-музей Римского-Корсакова в Тихвине, домик Чайковского в Клину, Музей-квартира Скрябина в Москве. Право же и здесь, в Кареве, может быть восстановлен дом Мусоргского1. Расположено Карево всего в четырех километрах от железнодорожной станции Жижица, мимо которой проходят поезда, следующие из Москвы на Великие Луки и Ригу. Живописное Жижицкое озеро вполне может привлечь туристов. Здесь и песчаные пляжи, и сосновые леса, и обилие рыбы в необычайно тихой и красивой реке Западной Двине.
Как ни жалко было покидать эти места, пришлось ехать дальше: предстояло еще много увидеть и услышать в Усмыни, Усвятах, Невеле. Впереди были новые встречи, новые люди, новые песни.
А песен мы услышали на редкость много: кроме былин, записаны песни буквально всех жанров. Некоторые цифровые данные говорят сами за себя: 150 лирических песен, почти 100 календарно-обрядовых (в том числе 41 масленичная!), 90 свадебных, около 20 хороводных, плясовых и столько же напевов частушек, 10 похоронных причитаний, 10 колыбельных, один духовный стих (про Лазаря) и больше десятка инструментальных наигрышей (цимбалы, скрипка, балалайка, гармонь, гитара) — всего 400 музыкальных записей, около четырех километров магнитофонной ленты! Запись производилась в 17 населенных пунктах от 42 исполнителей преимущественно пожилого возраста1. Некоторые из «песнехоров» обладают богатейшим репертуаром. Кроме А. Конюховой, хочется упомянуть о певцах Великолукского района: 71-летней А. Степановой, исполнившей около полусотни местных песен, 83-летней М. Пилюшиной с дочерьми (37 песен), 56-летней Е. Кротовой (25 песен) и других.
_________
1 Может быть, теперь, после появления статьи В. Пескова «Отечество» («Комсомольская правда» от 4 июня 1965 года), после образования Всероссийского добровольного общества охраны памятников, легче будет бороться за увековечение памяти Мусоргского на его родине. Пока не поздно, музыкальная общественность должна сделать здесь все, что в наших силах.
1 Приводим данные экспедиции 1964 года. Летом 1965 года И. Земцовский с композитором В. Гаврилиным сделали в Торопецком районе еще 115 записей.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- 1. Белорусец И. "Песня бойцов сопротивления" 5
- 2. Работу творческих союзов - на новый уровень 7
- 3. Манжора Б. За вехой - веха 13
- 4. Дашкевич В. Успех композитора 16
- 5. Сохор А. Массовая, бытовая, эстрадная... 20
- 6. Скребков С. Почему неисчерпаемы возможности классических форм? 26
- 7. Глиэр Р. Письма к М. Р. Ренквист 31
- 8. Пазовский А. Музыка и сцена 43
- 9. Лемешев С. Из автобиографии 55
- 10. Говорят деятели "Комише Опер" 61
- 11. Ступников И. Новая встреча со старой сказкой 69
- 12. Птица К. Большой русский талант 71
- 13. Рейзен М. Повысить требовательность 78
- 14. Г. Д. На международных конкурсах 80
- 15. Мильштейн Я. Всеволод Буюкли 82
- 16. Сигети Й. Заметки скрипача 89
- 17. Готлиб А. Давайте пробовать! 92
- 18. Динор Г., Цыпин Г. Готовим учителей пения 94
- 19. Земцовский И., Мартынов Н. На родине Мусоргского 98
- 20. Кужамьяров К. Двенадцать мукамов 104
- 21. Кельберг А. В рабочем порядке 106
- 22. Гольденштейн М. "Музыкальные следопыты" 108
- 23. Сосновская О. Лектор пришел в школу 111
- 24. Варшавская Р. Музыка и спорт 112
- 25. Еще раз о народных инструментах 113
- 26. Крейн Ю. Вспоминая Дюка 115
- 27. Вайсборд М. Музыкальные путешествия Чапека 120
- 28. Хаймовский Г. О творчестве и теории Мессиана 125
- 29. Холопов Ю. О творчестве и теории Мессиана 129
- 30. Лада О. Первый баритон 135
- 31. Коваль М. В стране фиордов 137
- 32. "Волки" 142
- 33. "Оле из Корамуна" 143
- 34. Мартынов И. Год Сибелиуса 144
- 35. ГДР. Опера Вагнера на экране 148
- 36. Болгария 149
- 37. Румыния 149
- 38. Чехословакия 149
- 39. Англия 150
- 40. Дания 150
- 41. ДРВ 150
- 42. Брагинский А. Звучит советская музыка 151
- 43. Землемеров В. Планы мастеров балета 151
- 44. Борисова С. Детский музыкальный... 153
- 45. А. Б. В нашем Доме... 155
- 46. Хенкин С. Семь дней на земле целинной 156
- 47. Поздравляем юбиляров 157
- 48. Смолич Н. "Тихому Дону" - 30 лет 158
- 49. Ткач Е. Баку - Кишинев 159
- 50. Михайлова Е. Молодость песни 160
- 51. Гости столицы 161
- 52. Шилов А. Друзья из Венгрии 162
- 53. Киселев М. Впервые в стране... 162
- 54. Премьеры 162
- 55. Павзун В., Покровский Н. Певица и педагог 163
- 56. Е. Т. Исполнилось... 163
- 57. Левтонова О. Таинственная сила "Страшного замка" 164
- 58. Комиссаров С. Прекрасное всем 165
- 59. Памяти ушедших. М. М. Габович 166



