дителями постановки в театре «Комише Опер» редки. Как правило, если во время предварительного чтения не определяется общая позиция, то пьеса просто не появляется на сцене. В истории «Комише Опер» я помню три случая, когда уже подготовленный к генеральной репетиции спектакль был либо снят, либо работу над ним начинали сначала, с новыми исполнителями. Так было с «Умницей» К. Орфа, «Жирофле-Жирофля» Ш. Лекока и «Молчаливой женщиной» Р. Штрауса.
Чтобы меня правильно поняли, я хочу пояснить, что говорю лишь о принципах, которыми мы руководствуемся в поисках решений этих сложных проблем. Конечно, на практике они далеко не всегда реализуются. Мне кажется, что наш театр отличается от многих других не отсутствием ошибок, а тем, что мы, понимая их, знаем, чего хотим добиться. О репетиционной работе выскажутся, я надеюсь, и другие участники нашей беседы.
Сильвия Гести. В зависимости от трудности произведения музыкальное разучивание партий продолжается в среднем от четырех до шести недель. Работаем мы и самостоятельно, и с концертмейстером. Я обычно сначала два-три раза прослушиваю свою партию на концертмейстерском уроке, а затем сажусь за рояль и самостоятельно разучиваю ее.
Рудольф Асмус. В этот период рабочий день особенно напряжен. Сколько часов продолжается репетиция? Много. Я вижу, коллеги смеются: наш профессор известен тем, что уж если он репетирует с нами, то долго и тщательно. Конечно, эти репетиции трудны, но зато потом, когда спектакль выйдет, мы почувствуем себя на сцене легко. Как говорит ваша пословица, тяжело в походе — легко в бою.
Уве Крейсиг1. Мы стремимся добиться абсолютного знания партии, при котором можем не смотреть на дирижера. Я думаю, что такое овладение партиями — это результат всего творческого процесса, через который мы проходим.
Дирижер работает с нами с первой же сценической репетиции. Его постоянная требовательность всегда сопровождает актера. Кроме того, мы хорошо помним слова профессора Фельзенштейна о роли пения в музыкальном театре. Пение — это процесс, захватывающий всего исполнителя, а не только его голосовой аппарат. Мы стремимся овладеть не только своей партией, но и всем, что связано с нашим пребыванием на сцене. Действия одного, реакция другого — все это усваивается, во все это мы вживаемся, это составляет непосредственную атмосферу нашего сценического существования. И поэтому мы легко входим в ритм и динамику действия.
Профессор Фельзенштейн требует, чтобы актер жил на сцене в темпе музыки, органически воспринимая ее самые мелкие длительности (восьмые, шестнадцатые), соответствующие эмоциональной нагрузке в каждом данном такте. Для нас, актеров «Комише Опер», эти слова полны глубокого смысла. Для того чтобы пояснить эту мысль, небольшой пример: квартет спорящих влюбленных из «Сна в летнюю ночь» Бриттена. У литавр — острый ритм, построенный на шестнадцатых. Здесь быстрый, возбужденный темп одинаково обязателен для всех четырех исполнителей. Но это ни в коем случае не предполагает жесты или движения в темпе шестнадцатых. Речь, конечно, о другом: в темп должно укладываться внутреннее состояние актера. Мы неоднократно убеждались в том, что если ритм нашей сценической жизни оказывается медленнее заданного, нарушается все, что должно происходить на сцене: участники один за другим не попадают в такт, все разваливается, потому что в партитуре нет ничего случайного, все ее элементы взаимосвязаны.
В этом отношении в музыкальном театре ощутить темп спектакля легче, чем в драматическом. Всем своим существом актер чувствует, когда он отстал или ушел вперед. И создается постоянная потребность в музыкальной точности исполнения.
Карл Фриц Войгтман1. Я хочу добавить, что независимо от степени ритмической чуткости актеров мы стремимся к большой ансамблевой прочности. И конечно, тут все решается количеством репетиционного времени и высокой требовательностью с первых шагов разучивания ансамблей.
Вальтер Фельзенштейн. Но еще до окончания разучивания партий начинаются сценические репетиции. И это очень важно. Если выясняется, что исполнитель недостаточно хорошо понял концепцию роли и спектакля, то мы снова проводим репетиции за столом, делая все необходимые корректуры. Одна из основных проблем, возникающих в этот период, состоит в том, чтобы соединить замысел образа и спектакля с технической стороной исполнения. В работе с исполнителями мы всячески избегаем расчленения на период музыкально-технического постижения партии и режиссерского ее ре-
_________
1 У. Крейсиг — баритон, исполнитель партии Деметрия в «Сне в летнюю ночь». В прошлом — драматический актер. В 1956 году, после четырех лет занятий пением, поступил в молодежную студию театра «Комише Опер».
1 К. Ф. Войгтман — дирижер. Руководит спектаклями «Сон в летнюю ночь» и «Синяя борода». Учился в Лейпциге, затем три года работал концертмейстером-репетитором в «Комише Опер». В репертуаре Войгтмана большое количество оперных постановок. Войгтман — автор оркестровой редакции «Синей бороды» Оффенбаха.
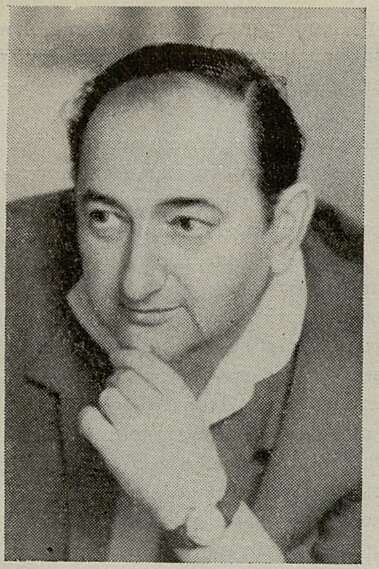
Рудольф Асмус
Сильвия Гести
Уве Крейсиг
шения. Ведь главное, к чему стремится театр, — органически сочетать два этих начала.
Сильвия Гести. Я часто видела в театрах, как поют певцы с красивыми голосами. Перед каждой фразой они проводят соответствующую «подготовку». Это производит ужасающее впечатление, потому что вокально-техническое начало полностью подчиняет себе исполнителя.
Но нередко возникает и обратное: доминирование актерской выразительности над вокальной стороной исполнения.
Мне кажется, что по-настоящему творчески соединить сценическую жизнь с пением может только тот, для кого вокальная техника так же естественна, как слово для драматического актера.
Вальтер Фельзенштейн. Основной принцип нашего театра, как я его понимаю, состоит в том, чтобы все, что звучит в оркестре, явилось бы выражением тех побуждений, которые переживает исполнитель на сцене и которые он выражает с помощью своего голоса. В музыкальном театре практически невозможно петь одно, а играть другое. Точно так же, как невозможно отделить содержание пения от содержания музыки, звучащей в это время в оркестре. Все, что играет оркестр, вызвано тем, что происходит на сцене, что переживает человек. Значит, пение — это не просто звучание его голоса, это как бы «звучание» всего человека целиком.
Курт Мазур1. Актер, умеющий полностью слить пение с задачами сценической выразительности, может добиться очень многого. И наоборот, отсутствие такого слияния часто разрушает важнейшие компоненты исполнения. В этом отношении, мне кажется, очень показательным случай, который произошел во время подготовки «Отелло».
В третьем акте Отелло, подозревающий в измене Дездемону, трижды повторяет одну фразу: «Ах, где платок мой?» Некоторые мелодические отличия каждого повтора требуют здесь от певца особенной интонационной точности. На одной из репетиций исполнитель спел эту реплику первый раз чисто, второй раз исказил интонацию, а в третий раз перешел на крик. На вопрос, почему он поет не то, что написано, последовал ответ: «Отелло знает, что Дездемона изменила и платка у нее нет, его яросгь нарастает, поэтому он не может не кричать». И только после того, как актер понял, что Отелло не только не уверен в обмане, а, напротив, всей душой хочет верить любви Дездемоны, он спел все абсолютно точно и очень выразительно. Речь в данном случае идет об исполнителе, для которого драматическая ситуация и музыка, сценическое действие и пение слиты воедино. Именно к этому и стремятся и солисты «Комише Опер», и хор, который, кстати, принципиально отличается от подобных коллективов других театров.
Хор «Комише Опер» состоит из солистов, каждый из которых представляет ярко выраженную творческую индивидуальность и может выступить самостоятельно в качестве актера и музыканта. Поэтому перед артистами хора в «Отелло», например, были
_________
1 К. Мазур — дирижер спектакля «Отелло», выступает с симфоническими программами. До «Комише Опер» в течение тринадцати лет работал оперным дирижером в разных театрах ГДР.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- 1. Белорусец И. "Песня бойцов сопротивления" 5
- 2. Работу творческих союзов - на новый уровень 7
- 3. Манжора Б. За вехой - веха 13
- 4. Дашкевич В. Успех композитора 16
- 5. Сохор А. Массовая, бытовая, эстрадная... 20
- 6. Скребков С. Почему неисчерпаемы возможности классических форм? 26
- 7. Глиэр Р. Письма к М. Р. Ренквист 31
- 8. Пазовский А. Музыка и сцена 43
- 9. Лемешев С. Из автобиографии 55
- 10. Говорят деятели "Комише Опер" 61
- 11. Ступников И. Новая встреча со старой сказкой 69
- 12. Птица К. Большой русский талант 71
- 13. Рейзен М. Повысить требовательность 78
- 14. Г. Д. На международных конкурсах 80
- 15. Мильштейн Я. Всеволод Буюкли 82
- 16. Сигети Й. Заметки скрипача 89
- 17. Готлиб А. Давайте пробовать! 92
- 18. Динор Г., Цыпин Г. Готовим учителей пения 94
- 19. Земцовский И., Мартынов Н. На родине Мусоргского 98
- 20. Кужамьяров К. Двенадцать мукамов 104
- 21. Кельберг А. В рабочем порядке 106
- 22. Гольденштейн М. "Музыкальные следопыты" 108
- 23. Сосновская О. Лектор пришел в школу 111
- 24. Варшавская Р. Музыка и спорт 112
- 25. Еще раз о народных инструментах 113
- 26. Крейн Ю. Вспоминая Дюка 115
- 27. Вайсборд М. Музыкальные путешествия Чапека 120
- 28. Хаймовский Г. О творчестве и теории Мессиана 125
- 29. Холопов Ю. О творчестве и теории Мессиана 129
- 30. Лада О. Первый баритон 135
- 31. Коваль М. В стране фиордов 137
- 32. "Волки" 142
- 33. "Оле из Корамуна" 143
- 34. Мартынов И. Год Сибелиуса 144
- 35. ГДР. Опера Вагнера на экране 148
- 36. Болгария 149
- 37. Румыния 149
- 38. Чехословакия 149
- 39. Англия 150
- 40. Дания 150
- 41. ДРВ 150
- 42. Брагинский А. Звучит советская музыка 151
- 43. Землемеров В. Планы мастеров балета 151
- 44. Борисова С. Детский музыкальный... 153
- 45. А. Б. В нашем Доме... 155
- 46. Хенкин С. Семь дней на земле целинной 156
- 47. Поздравляем юбиляров 157
- 48. Смолич Н. "Тихому Дону" - 30 лет 158
- 49. Ткач Е. Баку - Кишинев 159
- 50. Михайлова Е. Молодость песни 160
- 51. Гости столицы 161
- 52. Шилов А. Друзья из Венгрии 162
- 53. Киселев М. Впервые в стране... 162
- 54. Премьеры 162
- 55. Павзун В., Покровский Н. Певица и педагог 163
- 56. Е. Т. Исполнилось... 163
- 57. Левтонова О. Таинственная сила "Страшного замка" 164
- 58. Комиссаров С. Прекрасное всем 165
- 59. Памяти ушедших. М. М. Габович 166



