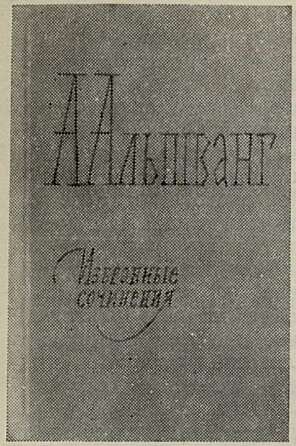
дила младешенька» в становлении мелодического стиля великого композитора.
Есть основания предполагать, что на Альшванга оказало большое влияние знаменитое определение А. Серовым принципа симфонического развития как «постепенного воплощения одной и той же идеи». Вдумываясь в это определение и расширяя сферу его действия, а также исходя из некоторых тонких наблюдений Б. Яворского, Альшванг делает заключение, что симфонизм — как диалектическая форма развития художественного образа — проявляется не только в музыке, но и в других искусствах. В третьей главе своей работы по истории русской симфонии он увлекательно излагает с этих позиций музыковедческий анализ...романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание»1. Разумеется, речь идет не о соответствии построения романа схеме, например, сонатно-симфонического цикла (автор специально подчеркивает, что специфика музыки не может быть «расшифрована» спецификой других искусств). Но, разбирая первую часть романа, он обнаруживает в ней все же признаки «подлинной симфонии»: наличие двух резко контрастирующих начал, сложной психологической разработки, приводящей к непреклонно закономерной репризе, и т. д. К сожалению, данная работа осталась незавершенной, и поэтому трудно оценить ее исчерпывающим образом; но нельзя не согласиться с И. Куниным в том, что «даже в своем фрагментарном виде она оставляет глубокое впечатление» (стр. 41).
Почти половину общего объема первого тома занимают четыре работы, посвященные Скрябину. Две из них («Жизнь и творчество А. Н. Скрябина» и «О философской системе А. Н. Скрябина») неоднократно публиковались при жизни автора. Сохраняя неизменной общую идейно-научную концепцию, Альшванг пересматривал план их построения, исключал отдельные фрагменты, представлявшиеся ему излишними или устаревшими2.Например, если в первых двух изданиях его монографии о Скрябине (1940, 1945) биографический и аналитический разделы («Жизнь» и «Творчество») фигурируют как самостоятельные части книги, то в третьем варианте, написанном в 1948 году, анализ творчества непосредственно увязан с жизнеописанием, а эволюция музыкального мышления раскрывается в связи с эволюцией мировоззрения.
Для правильной оценки значения альшванговских работ о Скрябине необходимо учитывать тот путь, который проделан советской скрябинианой вообще. Путь этот сложен и извилист. Об этом можно судить хотя бы по некоторым высказываниям, относящимся к 1920–1950-м годам. Так, если в 1921–1925 годах А. В. Луначарский утверждал, что «Скрябин нам сугубо нужен» и что в его произведениях звучит «пламенная фанфара», возвещающая о грядущем рождении нового мира3, если констатировалось, что «в наши дни безусловная ценность Скрябина-композитора никем не оспаривается, и едва ли кто-нибудь относится еще к гармоническим достижениям последнего периода его творчества как к парадоксальному эксперименту»4, то в конце сороковых и начале пятидесятых годов Скрябин представлялся уже почти законченным модернистом. Такое резкое расхождение во взглядах трудно объяснить только различием вкусов. Вероятно, известную роль тут сыграла и научная неразработанность обсуждаемой проблемы. Действительно, музыкальная наука о Скрябине, несмотря на наличие нескольких десятков книг, брошюр и статен, еще находится в зачаточном состоянии. Лишь в самое последнее время предпринято изучение его богатейшего музыкального архива, содержащего множество эскизов и дающего яркую картину творческой лаборатории гениального музыканта.
На этом фоне представляется важным подчеркнуть плодотворнейшую мысль Альшванга о том, что Скрябин — «один из последних классиков дореволюционной русской музыки» (стр. 272, разрядка моя. — Н. Ф.). Сурово и беспощадно критикуя идеалистическую философскую систему Скрябина, ученый вместе с тем отмечает ненависть композитора к эстетству и декадентству во всех его проявлениях, убедительно показывает, что музыкальные образы Скрябина, хотя они частично и связаны с его философскими идеями, не могут быть сведены лишь к ним. По мнению Альшванга, «мировая история искусства знала немногих художников, чей пламенный оптимизм мог сравняться со скрябинским», а в «космических панорамах» поздних скрябинских сонат он видит не модернистское изничтожение музыки, а «дыхание иного, нового, знаменующего, возможно, поворот к реальности» (стр. 153, 200).
Концепция, лежащая в основе альшванговских работ о Скрябине, несомненно примыкает к проницательным идеям Г. В. Плеханова и А. В. Луначарского, причем эти идеи (что очень важно!) получают у него музыковедческое обоснование. На первый взгляд может показаться странным, что большая часть исследования «О философской системе А. Н. Скрябина» посвящена детальному музыковедческому разбору его Седьмой сонаты. Но дело в том, что эта соната избрана лишь как некий центральный пункт, с которого автор счел наиболее удобным вести «круговое наблюдение». Анализ сонаты, изобилующий, кстати сказать, блестящими, эмоционально захватывающими характеристиками, содержит множество ссылок на другие произведения Скрябина и целиком подчинен задаче глубинного выявления подтекста музыкальных тем.
В то же время нужно признать, что стремление Альшванга объяснить противоречия скрябинского творчества органической противоречивостью его философии не всегда согласуется с музыкально-эстети-
_________
1 Эта глава, носящая название «Русская симфония и некоторые аналогии с русским романом», была написана в 1944 году и впервые напечатана в рецензируемом томе.
2 В настоящей рецензии внимание сосредоточено только на самых последних авторских вариантах.
3 А. Луначарский. В мире музыки. М., 1958, стр. 96, 142.
4 А. Гольденвейзер. Предисловие к книге В. Яковлева «А. Н. Скрябин». М.—Л., 1925, стр. 7.
ческими выводами автора. Трудно принять утверждение, будто теоретическое отрицание времени и процесса развития приводит композитора к «такой музыкальной форме, где все элементы даны заранее, где они лишь различным образом вибрируют, но не рождают нового» (стр. 242), то есть к исключению из сонатной схемы реального содержания и музыкального развития, к наполнению ее только отдельными импульсами. Эти определения даны в связи с анализом Седьмой сонаты, но, думается, они не соответствуют характеристике, содержащейся в другой работе Альшванга, в которой говорится, что в Седьмой сонате «элементы сознания преодолевают инертность», что «в результате огромного нарастания на гребне волны возникает первый возглас, означающий высшую силу волевого порыва. Косность преодолена» (стр. 196–197). Замечательные слова! Читая их, невольно вспоминаешь о впечатлении, произведенном недавно этой сонатой во вдохновенном исполнении С. Рихтера. Но возможно ли такое преодоление косности и инертности без всякой борьбы, вне процесса развития, имеющего определенное музыкальное содержание? Возможно ли оно, если все элементы даны заранее и ничего нового не рождают?
Некоторые возражения вызывает и анализ гармонической структуры Седьмой сонаты, которую автор рассматривает в свете теории ладового ритма Б. Яворского. Правда, убедительно доказывая, что своеобразие «колокольных звонов» сонаты подтверждает принадлежащую Яворскому трактовку дважды цепного (или полного цепного) лада, Альшванг конкретизирует ту роль, которую теория ладового ритма действительно способна сыграть в объяснении сложных явлений скрябинской гармонии1. Но представляя собой ценный вклад в теоретическое музыкознание, теория эта не свободна от «одноразрезности», отмечавшейся даже горячими ее сторонниками2. С помощью дважды цепного лада можно привести к одному знаменателю самые различные аккордовые комплексы, но, обладая колоссальной емкостью в отношении звукового материала, этот лад, по сути дела, очень беден в смысле тонального диапазона, фактически не выходящего за пределы интервала секунды. При рассмотрении сонаты через призму этого лада вне поля зрения остается модуляционный процесс, происходящий в связующей партии, недостаточно выявляются тональные соотношения главной и побочной партий, несколько заслоняется функциональная роль басовых основ. Между тем при более дифференцированном подходе ко всем этим особенностям можно, пожалуй, полнее раскрыть преемственность скрябинской гармонии и сильнее аргументировать тот вывод, что при всей своей сложности и необычайной новизне она не только не порывает с классическими традициями, а, напротив, по-своему их развивает.
В работах Альшванга значительное место занимают исследования черт и признаков, характеризующих реалистический метод в музыкальном творчестве. Эти исследования, по собственному признанию ученого, имели целью использование положительного опыта прошлого применительно к задачам советского искусства. Весьма плодотворной представляется мысль о важной роли, которую играют в реалистической музыке жанровые характеристики и обобщения. Они способны, как считает Альшванг, вызывать определенные ассоциации и выражать в «опосредствованном» виде объективную правду жизни, давая таким образом ключ к расшифровке идейного содержания музыки. Эта мысль, справедливость которой повсечасно регистрируется исполнительским опытом, получила развитие в ряде работ Альшванга, в том числе и в статье «Проблемы жанрового реализма», включенной в рецензируемый том.
Работы Альшванга, непосредственно посвященные советскому музыкальному творчеству, представлены в томе двумя небольшими, но содержательными очерками — «Советский симфонизм» (1945) и «Третья симфония Сергея Прокофьева» (1935). Альшванг начинает с рассмотрения произведений Мясковского, особо выделяя его Шестую симфонию и прослеживая ход дальнейшей эволюции композитора до 1945 года. Лаконичные, но яркие характеристики получили в очерке Седьмая и Восьмая симфонии Шостаковича, Пятая Прокофьева. Конечно, за последние два десятилетия творчеству этих композиторов был посвящен ряд обширных исследований, в которых названные сочинения разобраны более подробно и обстоятельно. Тем не менее очерки Альшванга не потеряли своей актуальности, как образцы научно-популяризаторской работы. Вообще следует отметить, что составитель тома А. Сеславинская поступила совершенно правильно, включив в него разнохарактерные работы (монографические исследования, глава из учебника, журнальные статьи, научно-популярные очерки) и показав тем самым многогранность Альшванга как музыковеда. Эта многогранность дополнительно раскрывается в предпосланных изданию статьях Л. Кулаковского, И. Кунина и В. Цуккермана, из которых читатель узнает также о лекторской, педагогической, рецензентской, организаторской работе ученого, сумевшего, несмотря на тяжелую долголетнюю болезнь, занять почетное место в ряду активнейших деятелей советской музыкальной культуры.
Сожаление вызывает лишь то, что намеченный объем издания избранных сочинений Альшванга явно недостаточен для полноценного осуществления поставленной задачи. Достаточно сказать, что объем капитальной монографии ученого о Чайковском, изданной в 1959 году, составляет 46,6 печатных листов, а объем первого из двух томов «Избранных сочинений» — 13,75 печатных листов, то есть в три с лишним раза меньше. Из этого следует, что самый значительный, главнейший труд Альшванга не войдет в число его избранных сочинений, не получит отражения в сводных указателях и т. д. и т. п. Не войдет, по всей вероятности, и упоминавшаяся выше монография о Бетховене, которую нынче днем с огнем не сыщешь даже и в букинистических магазинах. Думается, что такое совершенно неоправданное занижение объема издания должно привлечь внимание руководства издательства «Музыка» и Комитета по делам печати при Совете Министров СССР.
_________
1 Я не касаюсь сейчас вопроса о степени правомерности сведения восьми устойчивых звуков (С—Е, Es—G, Fis—Ais, A—Cis) дважды цепного лада к звукоряду «полутон — тон». Отмечу лишь, что сам Яворский считал это сведение условным, поскольку в дважды-ладах «использованы не только все звуки двенадцатизвучной октавы, но и введены еще звуковые соотношения меньше полутона» (Б. Яворский. Основные элементы музыки. «Искусство», 1923, стр. 188).
2 См., например: Л. Кулаковский. О теории ладового ритма и ее заданиях. «Музыкальное образование», № 1, 1930.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 6
- «Слушайте Ленина!» 7
- Патетическая симфония 9
- Из архивов Н. К. Крупской 20
- Победа Стеньки Разина 24
- Поэтичные страницы 28
- Грузинские впечатления 32
- Опера сегодня 37
- В прениях выступили 46
- Размышления после премьеры 55
- Встречи и размышления 58
- Широта устремлений 63
- Из воспоминаний 67
- Чудесный дар 69
- Ефрему Цимбалисту — 75! 71
- Первая виолончель Франции 73
- В концертных залах 76
- Спустя полвека 86
- В поисках нового языка 92
- Реплика В. Брянцевой 95
- Без единого руководства 97
- Письмо из Тувы 99
- Мировоззрение и эстетика 101
- Воспитание музыкой 114
- По системе Кодая 117
- Софийские встречи 126
- На музыкальной орбите 135
- Труд большого ученого 142
- «Близнецы» 145
- Нотография 149
- Новые грамзаписи 150
- Хроника 151



