Обилен и поток неопубликованных материалов, до сих пор не фигурировавших в биографиях Мусоргского. Это записные книжки и письма к различным лицам М. Балакирева, дневник литератора и композитора И. Тюменева, копии с различных документов из архива А. Римского-Корсакова, воспоминания ученицы школы Д. Леоновой — А. Демидовой, письма Л. Шестаковой, В. Никольского и многое другое.
И дело не только в обширности привлеченных документов, но и в серьезном, критическом отношении к ним. Нередко Орлова даже ранее опубликованные материалы текстологически выверяет и уточняет. Многие из них она впервые датирует, обосновывая свою датировку, в ряде случаев исправляет ошибки в датах писем Мусоргского, допущенные публикаторами.
Таков «строительный материал» книги. Какова же ее «архитектура»?
Все составленные до сих пор «Летописи» представляют собой последовательный хронологический монтаж документированных свидетельств. Однако не все они по своему содержанию и, следовательно, по своей идее одинаковы. Часть «Летописей» тяготеет преимущественно к изданиям справочного типа. В них сведения очень скупы, цитаты ограниченно кратки. К такой книге обратишься, если тебе потребуется проверить какую-нибудь дату, уточнить сроки сочинения того или иного произведения.
«Летопись» Орловой иного типа. Сохраняя значение справочного издания, она вместе с тем задумана как своеобразный биографический труд, в который можно заглянуть не только как в словарь. В нем есть нечто от документальной хрестоматии. Сжатые, сухие сведения перемежаются здесь с более или менее значительными цитатами из писем, мемуаров, отзывов и статей о различных произведениях. И если читаешь «Летопись» последовательно, преодолев известную усложненность восприятия, вызванную фрагментарностью материала, возникает неожиданный эффект. Из разнообразных, зачастую отдельных кусков текста, подобных разрозненным кинокадрам, складывается живая и цельная картина жизни художника. Перекрещивающиеся факты позволяют уловить трудно схватываемые тонкие психологические черты личности Мусоргского, особенности его взаимоотношений с окружающими людьми, наконец, процесс создания того или иного сочинения. Для уяснения этой особенности книги можно привести хотя бы один пример.
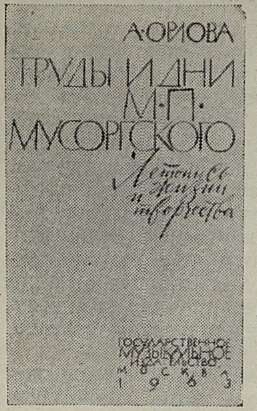
После премьеры «Бориса», в январе 1874 года, появилось в печати много статей о новой опере. Среди иих и статья товарища Мусоргского по балакиревскому кружку — Кюи («Спб. Ведомости» от 6 февраля 1874 г.). Под маской объективного судьи Кюи не только высказал в своей рецензии много ошибочных суждений, но наполнил статью оскорбительными личными выпадами против Мусоргского. Он обвинял автора «Бориса» в спешном сочинительстве, в самодовольстве, в незрелости, что особенно уязвило Мусоргского, так как в этом он усмотрел неэтичный поступок близкого друга. Казалось, этот инцидент должен был привести к серьезному разрыву между ними. В следующем, 1875, году Мусоргский был приглашен дирекцией театров в состав комитета, призванного оценить новую оперу Кюи «Анджело». Письменный отзыв Мусоргского об этой опере (см. «Летопись», стр. 432) поражает необыкновенной доброжелательностью, стремлением подчеркнуть великолепные свойства произведения. Даже отмечая его теневые стороны, Мусоргский всячески их смягчает.
Сопоставление этих двух фактов, подобно многим другим свидетельствам современников, наглядно рисуют Мусоргского как человека, наделенного удивительной деликатностью и скромностью, сочетающимися в нем с доброжелательностью, готовностью всегда прийти на помощь людям. Обаяние личности Мусоргского было неотразимо для всех, так или иначе сталкивавшихся с ним.
Широкий исторический фон жизнеописанию композитора придает обильное цитирование печатных отзывов о его произведениях. Орлова приводит большие куски из газетных и журнальных статей. Особенно много их, естественно, посвящено «Борису Годунову» — единственной опере Мусоргского, увидевшей свет при жизни композитора.
«Летописи» предпослана большая и содержательная вводная статья Орловой. Открывается она обзором источников «Летописи», а также изложением принципов композиции книги, подчеркивающим значительность критической работы, проделанной составителем. Центральное место во «Введении» занимают наблюдения автора над развитием творческого процесса Мусоргского. Они основываются на тщательном изучении рукописей композитора. Читатель не найдет здесь рассмотрения самих музыкальных текстов, сравнения различных вариантов отдельных произведений или оперных кусков. Не в этом задача автора. Основываясь на уже существующей эстетической оценке творчества Мусоргского, Орлова показывает, как складывались во времени сюжет и драматургия больших оперных композиций, как параллельно сочинялись «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка», «Хованщина» и «Песни и пляски смерти». Этот параллелизм позволяет оттенить смысл и значение соседствующих сочинений.
Некоторые моменты вступительной статьи, как и характер отдельных комментариев в самой «Летописи», окрашены в скрытые или явные полемические тона. В них слышится эхо тех острых опоров, которые велись вокруг Мусоргского, его творений и при жизни композитора, и в более поздние времена, вплоть до двадцатых-тридцатых годов нашего века. И хотя напряженность этих опоров в наши дни уже в значительной степени ослабела, музыканты уже не ломают копий по поводу преимуществ авторской или корсаковской редакций «Бориса Годунова», не спорят, грамотен ли был Мусоргский, все же отголоски этой полемики не угасли еще и сейчас. Они-то
и дают себя чувствовать в позиции Орловой. Автор «Летописи» движим самыми благородными побуждениями — оградить великого композитора от каких бы то ни было несправедливых нареканий. Она решительно и темпераментно бросается в бой против действительных и мнимых критиков. Подчас в своих защитных аргументах Орлова, однако, становится на сомнительную позицию.
Конечно, автор «Летописи» совершенно права, когда утверждает, что семидесятые годы не принесли творческого упадка композитора, что его создания этого времени отмечены подлинной силой гения, находящегося в расцвете своих сил. Но вряд ли верно по отношению к Мусоргскому утверждение, «что он прошел превосходную школу профессионального обучения» (стр. 22). Также не следует с доказательными целями цитировать явно преувеличенное заявление самого композитора (в «Автобиографии»), что он с Балакиревым «прошел всю (!) историю развития музыкального искусства, — на примерах, при строгом систематическом анализе всех (!) капитальных музыкальных творений музыкантов европейского искусства в их исторической последовательности» (стр. 39). В творчестве Мусоргского главенствовала его гениальная художественная интуиция. В несравненно меньшей степени оказывала ему помощь «школа профессионального обучения», которой он, в сущности, был лишен. В этом отношении много общего в судьбах Мусоргского и Шуберта: оба великих композитора основывали свое творчество на знаниях, приобретенных преимущественно путем самообразования.
Наряду с преувеличениями во вступительной статье «Летописи» мы неожиданно сталкиваемся и с недооценкой значительного творческого явления — оперы «Женитьба». Это острое, поражающее смелостью и прозорливостью, новаторское произведение всегда порождало различные, нередко диаметрально противоположные мнения. И хотя «Женитьба» в творческом развитии Мусоргского явилась своеобразным подступом к большому историческому полотну, ради которого композитор оставил гоголевскую диалогическую оперу на первом акте, последняя занимает в его наследии выдающееся и вполне самостоятельное место. Пусть Мусоргский старался оправдать в глазах своих друзей работу над «Женитьбой» поисками интонационно-речевых характеристик персонажей комедии Гоголя, в действительности результаты этих исканий переросли авторские намерения. Гениальный художник создал принципиально новое сочинение, открывшее много лет спустя, когда оно было извлечено Римским-Корсаковым на свет, новые пути в оперной драматургии. Поэтому неправомерно стремление Орловой защитить «Женитьбу» от критики тем, что ее «нельзя рассматривать (и, следовательно, оценивать) как произведение, имеющее в творчестве Мусоргского самостоятельное художественное значение» (стр. 25). «Женитьба» — одновременно и школа музыкально-психологического реализма великого композитора, лаборатория его замечательных исканий, и вместе с тем самодовлеющая художественная ценность высокого значения.
Однако не эти тезисы вводной статьи, вызывающие желание поспорить с автором, определяют ее качества. В основном «Введение» верно ориентирует читателя в трактовке важнейших проблем изучения личности и творчества Мусоргского.
«Летопись» дает повод обсудить еще один вопрос — вопрос иконографии Мусоргского. Помимо ряда известных фотографических и художественных портретов композитора, Орлова поместила в книге и любительскую фотографию Мусоргского из собрания ленинградского коллекционера И. Семенова1. Датируется она последними месяцами жизни Модеста Петровича (зима 1880–1881 года). Появление до сих пор неизвестного изображения Мусоргского, конечно, представляет незаурядный интерес.
Однако Мусоргский ли это? Внимательное изучение вновь опубликованного фото заставляет решительно в этом усомниться. Прежде всего трудно обнаружить в нем действительное сходство с Мусоргским. Соблазнительная «похожесть» этого изображения приблизительная и поверхностная: общие очертания лица, усы, борода. К тому же сфотографированный здесь человек в зимней одежде — меховая шапка и воротник — позволяют воображению дорисовывать портрет в желаемом направлении. Но вглядываемся в новую фотографию — и прежде всего видим, что на ней снят человек более пожилого возраста (ведь Мусоргскому, когда он умер, было только сорок два года!). Жесткие узкие глаза совсем не похожи на большие, выпуклые, немного навыкате, мягкие глаза композитора. К тому же глубокая поперечная морщина на переносице решительно снимает сходство с Мусоргским. Ни на одном портрете Мусоргского мы этой морщины не найдем, даже на репинском портрете, написанном, как известно, в то же время, к которому отнесена фотография из коллекции Семенова. Репинское изображение привлекает не только своими выдающимися живописными качествами, но и поразительным сходством, неоднократно отмечавшимся друзьями Модеста Петровича. Созданный во время последней болезни Мусоргского, этот портрет должен был бы усугублять страдальческие черты лица. Но и на нем светятся большие, теплые, добрые глаза и нет никакой морщины на переносице. Да и форма носа совсем иная.
Все эти сомнения осложняются еще недоумениями иного порядка. На фотографии Мусоргский представлен в новом дорожном щегольском тулупе со шнурами, большой меховой шапке и добротных кожаных перчатках. Как известно, композитор с осени 1879 года никуда из Петербурга не выезжал, если не считать кратковременной концертной поездки в конце апреля 1880 года в Тверь. Следовательно, обряжаться в теплую, рассчитанную на дальний путь и в зимнее время одежду у него не было повода. Да откуда Мусоргский мог взять в это время такой меховой наряд? Ведь в последний год жизни он переживал крайнюю нужду. Сама Орлова пишет об этом времени: «Наступает 1880 год — последний год
__________
1 Незадолго до выхода в свет «Летописи» эта фотография была опубликована в журнале «Музыкальная жизнь» (см. № 18 за 1963 г.).
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Идет, гудет Зеленый Шум» 5
- Воспитывать мировоззрение! 10
- Поздравляем с днем женщин! 11
- Вместо вступления 16
- Восхождение 26
- Молодые силы Казахстана 33
- Творчество, отмеченное поиском 36
- Онегин — Георг Отс 45
- Голос слушателей 49
- О двух важных принципах художественного воздействия 51
- Мысли вслух 59
- Заботы оперного композитора 61
- Заметки хореографа 66
- Мясковский и современность 68
- К 125-летию со дня рождения М. П. Мусоргского 79
- Величайший русский художник 80
- Два варианта «Женитьбы» 83
- Еще о Рихтере 92
- Танцует Владимир Васильев 96
- Школа, репертуар, инструменты 103
- Имени Лонг и Тибо 105
- Верди, Брамс 106
- Киргизские музыканты 107
- Звучит музыка Кодая 109
- В Колонном зале 110
- Новое в программах 110
- Письмо из Киева 112
- Неоправдавшиеся надежды 115
- Страницы живой летописи 117
- «Военные» симфонии Онеггера 122
- Берлинский дневник 131
- Верность народному гению 138
- Труды и дни Мусоргского 140
- Впервые о Зилоти 143
- Пути американской музыки 145
- Нотография 149
- Хроника 151



