отличается особой свежестью и остротой хореографического рисунка. Своеобразие и юмор придают ей игровые пантомимные сцены. Вся пластическая повадка Васильева в этом балете «звучит» в интонации, идущей от русской народной пляски: медлительная «растяжечка», неторопливая широта и размах всех движений, удаль и озорство в технически сложных «коленцах». Васильев пластичен в самой «неуклюжести» своего Иванушки, даже в том, как он стоит, подбоченясь, широко расставив ноги, удивленно и весело взирая на все творящееся вокруг.
Танцуя дуэт с Царь-девицей, он с таким наивным удивлением смотрит на поднятую ногу балерины, словно впервые видел такое «чудо». И все сложности балетных поддержек Иванушка — Васильев преодолевает как будто просто в силу природной смекалки.
Верно писали в зарубежной прессе, что Васильев в этой партии остается безупречным классическим «кавалером», ни на секунду не теряя, не упуская характера.
Васильев — настоящий «Иванушка-дурачок», бесхитростный и доверчивый, смешной и поэтичный в одно и то же время.
Как будто простодушный «дурачок», а на самом деле лукавый мудрец, ясный душевный покой которого не могут нарушить никакие горести и неудачи. Иванушка — Васильев абсолютно бесстрашен, потому что ко всем опасностям относится с наивным любопытством, беззлобно и бестревожно.
Васильев словно создан для русского балета, для русской сказки. Это действительно «добрый молодец». У него буйный, открытый темперамент и вместе с тем несокрушимое доброжелательство, просветленная ласковость, добрая мягкая усмешка во всем — в танце, в мимике, в пантомиме.
В роли Иванушки немало комедийных ситуаций, в которых актера подстерегает опасность нажима, наигрыша. Васильев счастливо избегает этой опасности, сохраняя мягкость юмора в самых грубоватых приемах буффонады.
Но, пожалуй, самое примечательное в исполнении Васильева, — то что, передавая бесхитростное простодушие, наивность Иванушки, он сохраняет какой-то едва уловимый «взгляд со стороны», иронию современного актера. В этом сказалась его музыкальная чуткость, ибо народность партитуры «Конька-горбунка» выражается в остроумии и блеске музыки, в интеллектуальности, ироничности его автора, заставляющего вспомнить русские сказочные образы в претворении С. Прокофьева и И. Стравинского.
Здесь уже говорилось о широте артистического диапазона Васильева. Уже сейчас наметилось несколько различных линий его репертуара, различных «тем» его творчества.
Одной из первых работ Васильева на сцене
«Конек-горбунок» Р. Щедрина
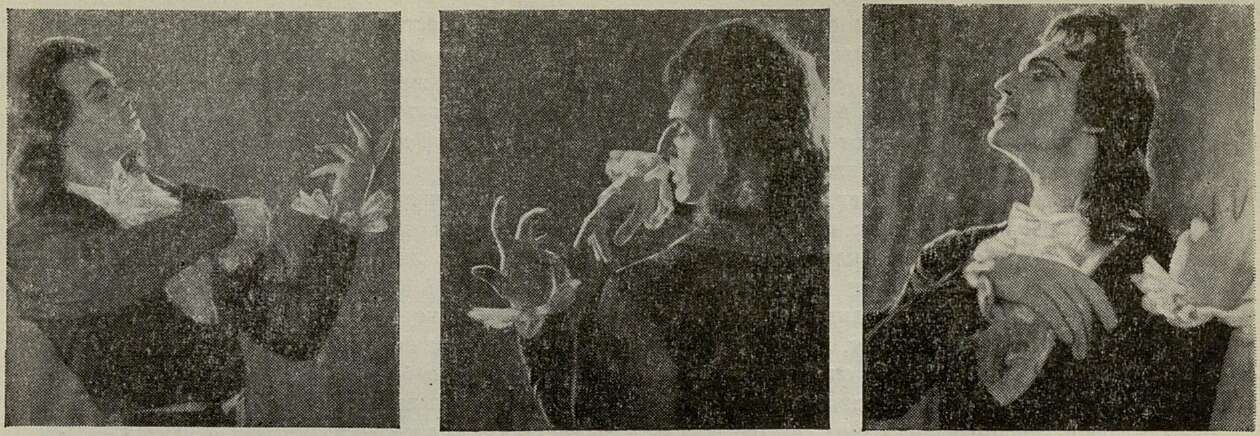
«Паганини» С. Рахманинова
Большого театра была партия Пана в «Вальпургиевой ночи» (постановка Л. Лавровского). Здесь он поразил почти «языческой» стихийностью темперамента, яростным и бурным весельем. Почти гротесковая резкость пластического рисунка соединена с кошачьей звериной мягкостью, эластичностью пружинистых, упругих движений. Проказливый, чувственный, нетерпеливый и вкрадчиво-неотвязный Пан Васильева то взвивался в воздух, озорно перебирая ногами, то проносился по сцене, мелькая в стремительных верчениях, то с размаху падал на землю и лежал распластавшись, пьяный от возбуждения, ошалевший от поднятой им самим вакхической бури.
Пан открывает серию образов Васильева, основанных на пластических мотивах античности. Его Нарцисс в номере на музыку Н. Черепнина (постановка К. Голейзовского) не холодный, элегически влюбленный в себя эфеб, а страстное существо, похожее на сатира или фавна. Кажется, что Нарцисс смотрится не в застывшую гладь воды, а в струящийся поток, он радостно озадачен тем, как причудливо отражается его облик в преломлении водяных струй, он открыл для себя волшебство, увидел себя и не может оторваться, уследить, как колеблется, исчезает и вновь появляется, искажается и восстанавливается его отражение. Он не просто любуется своим отражением, а любовно грозит себе, задирает, дразнит, говорит сам с собой, безмерно удивляется...
Если античность — это «детство человечества», то Васильев удивительно передает эту первозданную неистовую жажду познания, ощущения жизни, способность «без остатка» растворяться в природе, жадно впитывать, вбирать, поглощать все радости и впечатления. Васильев может воплотить в танце и страстность античных героев.
Последняя его роль подобного плана — раб в балете «Спартак» А. Хачатуряна (постановка Л. Якобсона). Юный раб одержим страстью к Эгине, он слеп и глух ко всему, не видит хохочущих патрициев, не слышит шума оргии, не замечает надвигающейся опасности. Он тянется к Эгине, как человек, опаленный жаждой, тянется к воде, а куртизанка то и дело ускользает из его рук и снова манит... Раб стремится к ней, не подозревая об обмане, коварстве, он по-детски доверчив и поэтому чист в своем неистовом, сжигающем его чувстве. Утонченная, изощренная жестокость пресыщенной толпы становится особенно страшной по контрасту с этим простодушием, с этой безрассудной, детской неотступностью. И в небольшой партии раба жизнелюбие Васильева звучит в неожиданно трагическом преломлении.
Еще со времени выступления юного Васильева в роли Джотто угадывалась его способность жить на сцене высоким накалом страстей.
Трагическими чертами наделен и его Паганини в балете на музыку С. Рахманинова (постановка Л. Лавровского). Партия Паганини требует танцовщика нового стиля, здесь классика, построенная на труднейших, стремительных темпах, создающих огромную динамичность танца, звучит как бы в гротесково-трагическом преломлении.
От такта к такту, от движения к движению Васильев, нагнетая эту динамику, увеличивает огромное напряжение фантастически учащенного пульса, этой снедающей его лихорадки, этого яростного самосжигания. Так понимает он жизнь Паганини, жизнь художника, словно брошенную в огонь творческой мечты.
Прекрасный первый исполнитель партии Паганини Я. Сех тонко передает одиночество велико-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Идет, гудет Зеленый Шум» 5
- Воспитывать мировоззрение! 10
- Поздравляем с днем женщин! 11
- Вместо вступления 16
- Восхождение 26
- Молодые силы Казахстана 33
- Творчество, отмеченное поиском 36
- Онегин — Георг Отс 45
- Голос слушателей 49
- О двух важных принципах художественного воздействия 51
- Мысли вслух 59
- Заботы оперного композитора 61
- Заметки хореографа 66
- Мясковский и современность 68
- К 125-летию со дня рождения М. П. Мусоргского 79
- Величайший русский художник 80
- Два варианта «Женитьбы» 83
- Еще о Рихтере 92
- Танцует Владимир Васильев 96
- Школа, репертуар, инструменты 103
- Имени Лонг и Тибо 105
- Верди, Брамс 106
- Киргизские музыканты 107
- Звучит музыка Кодая 109
- В Колонном зале 110
- Новое в программах 110
- Письмо из Киева 112
- Неоправдавшиеся надежды 115
- Страницы живой летописи 117
- «Военные» симфонии Онеггера 122
- Берлинский дневник 131
- Верность народному гению 138
- Труды и дни Мусоргского 140
- Впервые о Зилоти 143
- Пути американской музыки 145
- Нотография 149
- Хроника 151



