именно те места, перед которыми другие певицы останавливаются в тупике). От спектакля к спектаклю роль растет актерски. Ее Дьячиха ничего не потеряла от своей гордости и строгости, холодности и властности, но ни на одно мгновение не перестает она быть человеком с истерзанным сердцем, достойным сожаления, великим и сильным в сцене признания и раскаяния. Артистка создала человечески правдивый и потрясающий образ, увлекающий публику. Ее исполнение вызвало восторг знатоков чешской музыки, перед глазами которых прошло много Дьячих, чешских и зарубежных»1.
Такая высокая оценка работы Архиповой не преувеличение, и только можно пожалеть, что опера Яначека имела столь короткую сценическую жизнь. Успех Дьячихи был обусловлен самим характером работы над ролью, принципом глубокого осмысливания музыки, о котором и сегодня с увлечением вспоминает Архипова: «Каждый штрих музыки Халабала толковал так образно, что эта деталь становилась естественной как человеческое дыхание. «Почему здесь квартоль? — спрашивал дирижер. — Да потому, что он отражает состояние героини: Дьячиха без конца зудит и пилит Енуфу, повторяя одно и то же. Такая квартоль уже не просто часть ритмического рисунка, это образ». Халабала проходил партию так, что внутренняя жизнь героя получала толкование в самой музыке. В каждом такте был определенный момент поведения. В результате возникал интересный и очень разнообразный характер. Когда музыка и ритм Наполняются содержанием, образ приобретает законченную жизнь, захватывающе интересную и для исполнителя, и для зрителя. Тогда мизансцены являются последним заключительным штрихом в рисунке образа. Дьячиха упрекает падчерицу в неблагодарности, ворчит на нее и в то же время обрызгивает белье, катает его, складывает в корзинку, делая это механически, не глядя. Мизансцена подчеркивала главную мысль музыкально-вокального образа: повседневная работа по дому не уводила мысли Дьячихи от того, что терзало ее день и ночь...
_________
1 «Советский артист» от 21 января 1959 г.
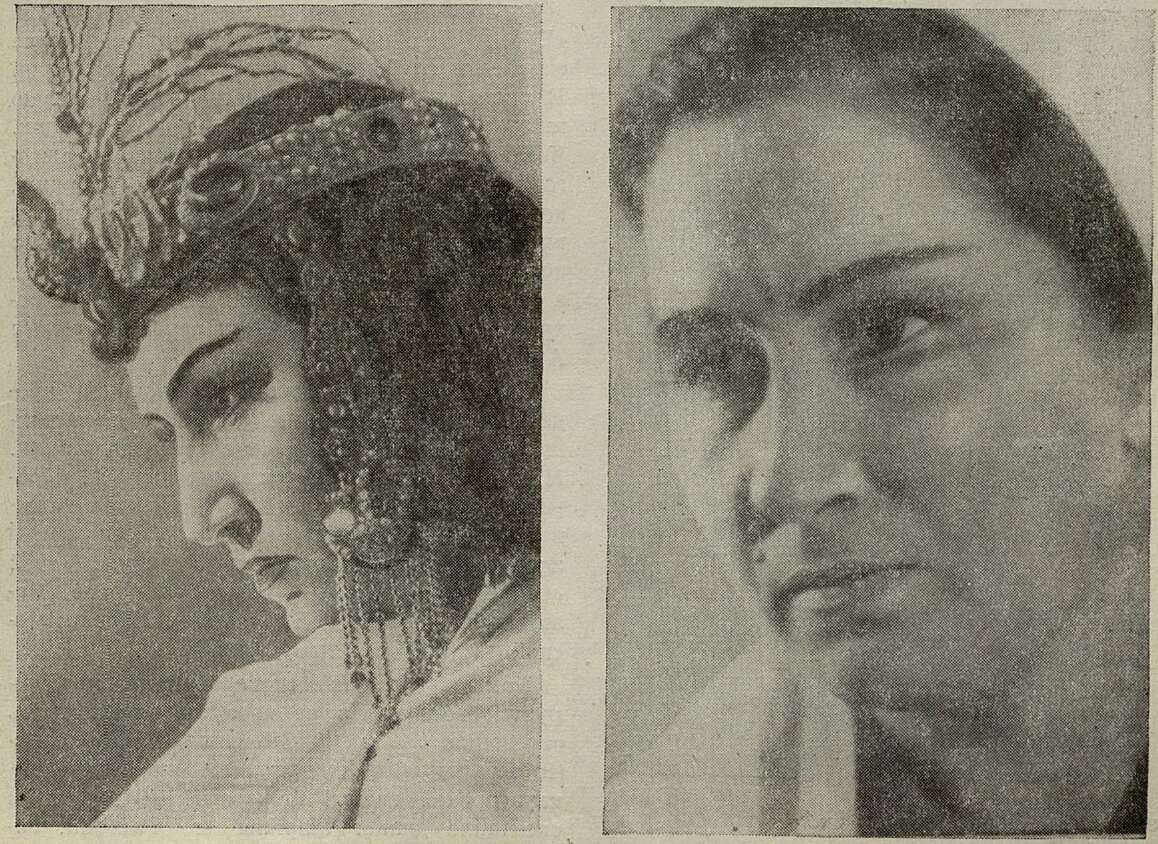
«Я никогда не забуду волнующих, полных напряженного труда и творческой радости репетиций с Халабалой».
Принципы работы, познанные в творческом общении с замечательным музыкантом, Архипова стремится осуществить и в последую-

Эболи. «Дон Карлос» Верди
щих ролях. Артистка всегда думает о месте ее партии во всей идейно-художественной концепции спектакля. И тут иногда происходят удивительные вещи: казалось бы, роль, несущественная для развития действия, становится важнейшей частью целого. Одно из лучших созданий Архиповой — Полина из «Пиковой дамы» Чайковского. Она пленяет не только задушевностью исполнения и какой-то особенной русской теплотой, запоминается не только привлекательный, мягкий облик княжны, легко переходящей от элегического романса к веселой русской пляске. Архипова-Полина — подруга Лизы. Интонации тревоги за близкого человека, стремление рассеять ее мрачное настроение, внимательный и полный участия взгляд Полины при прощании — все создает ту душевную атмосферу, которая существенно влияет на наше восприятие образа Лизы. Такая Полина помогает понять огромные душевные силы Лизы, с мужеством борющейся за свое счастье...
И вот небольшая партия становится образом и заметно влияет на понимание зрителем главной линии спектакля.
Эпизодическое появление Архиповой в «Борисе Годунове» (Марина Мнишек) также оставляет глубокий след в памяти зрителя. В сцене у фонтана артистка нашла целую гамму красок в характере своей героини. Четкая дикция, штрих несколько «открытого» звука подчеркивают своеволие Марины, которое великолепно передано пунктирным рисунком ритма. Едва заметные portamento подчеркивают ее издевку над Самозванцем, а через минуту невозможно не верить в искренность волнующе теплого звучания голоса Архиповой в любовном дуэте.
Но Марина убеждает, не выходя за пределы данной сцены, не участвуя по-настоящему в идейном конфликте всего спектакля. И это уже не вина исполнительницы. Причина — в решении всей постановки и в купюрах, сделанных театром. Так, из спектакля исчезла сцена Рангони и Марины, этой «тайной участницы — по определению А. Пазовского, — иезуитской религиозно-политической интриги против Московии».
Нам скажут, что сцена с Рангони купируется всегда. Но не пора ли пересмотреть отношение к так называемым «казенным» (то есть идущим от традиции «казенной» императорской сцены) купюрам?! Останься в спектакле диалог Марины с Рангони, на
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Идет, гудет Зеленый Шум» 5
- Воспитывать мировоззрение! 10
- Поздравляем с днем женщин! 11
- Вместо вступления 16
- Восхождение 26
- Молодые силы Казахстана 33
- Творчество, отмеченное поиском 36
- Онегин — Георг Отс 45
- Голос слушателей 49
- О двух важных принципах художественного воздействия 51
- Мысли вслух 59
- Заботы оперного композитора 61
- Заметки хореографа 66
- Мясковский и современность 68
- К 125-летию со дня рождения М. П. Мусоргского 79
- Величайший русский художник 80
- Два варианта «Женитьбы» 83
- Еще о Рихтере 92
- Танцует Владимир Васильев 96
- Школа, репертуар, инструменты 103
- Имени Лонг и Тибо 105
- Верди, Брамс 106
- Киргизские музыканты 107
- Звучит музыка Кодая 109
- В Колонном зале 110
- Новое в программах 110
- Письмо из Киева 112
- Неоправдавшиеся надежды 115
- Страницы живой летописи 117
- «Военные» симфонии Онеггера 122
- Берлинский дневник 131
- Верность народному гению 138
- Труды и дни Мусоргского 140
- Впервые о Зилоти 143
- Пути американской музыки 145
- Нотография 149
- Хроника 151



