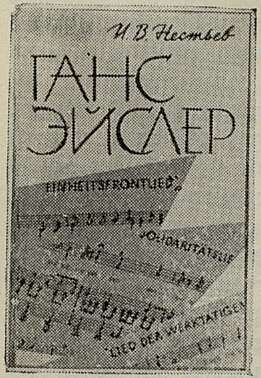
черка. Нестьеву удалось рельефно показать не только характерные стилевые черты музыки Эйслера, метко определить ее выразительные средства, но и проследить основную линию развития многогранной творческой личности композитора, его сложный путь к овладению методом социалистического реализма, хотя анализ отдельных произведений сделан уж очень скупо.
Нестьев хорошо знает и любит музыку Эйслера. Он умеет ясно и просто, не прибегая к «музыковедческим сложностям», рассказать о прелести мелодических находок композитора, о суровой, мужественной красоте его маршей и гимнов, о своеобразии его декламации, ритмики, гармонического языка. Используя исторические материалы, высказывания самого Эйслера и его ближайших соратников по борьбе за новое искусство, Нестьев воссоздает широкую картину политической обстановки и общественно-культурной жизни Германии 20-х и 30-х годов, убедительно раскрывает противоречия в развитии творчества композитора.
Год за годом прослеживает Нестьев жизненный путь композитора. Эйслер — рядовой австрийской армии. Два года он провел на фронте, ненавидя войну. В военном госпитале Эйслер узнает об Октябрьской революции.
«Призывы большевиков к миру, против империалистической войны воодушевили меня, — писал он. — Вся моя жизнь была определена идеями Великой Октябрьской революции — самой действенной и могучей во всей истории человечества».
С 1924 года композитор живет в Берлине. Он устанавливает связи с участниками рабочего движения, с хоровыми объединениями берлинского пролетариата. Здесь начинается дружба Эйслера с выдающимися революционными поэтами, драматургами, режиссерами и артистами. Особую роль в творческом становлении молодого композитора сыграла встреча с неустрашимым певцом революции Эрнстом Бушем (1928).
С 1933 года Эйслер в эмиграции. Этот трудный период в жизни композитора обрисован в главе «Годы изгнания». Несмотря на тяжкие испытания, он ни на день не оставляет работу над новыми произведениями. Ближайшим его соратником является также находившийся в эмиграции в США Бертольд Брехт, на стихи которого в эти годы Эйслер создает десятки своих лучших песен, баллад, элегий. Возвратившись после разгрома нацизма на родину, Эйслер с необыкновенной энергией включается в строительство культуры ГДР. Он ведет класс композиции в Высшей музыкальной школе Берлина, сочиняет песни и хоры, вдохновленный новой тематикой борьбы за социалистическую Германию, за мир и дружбу народов.
Жаль только, что Нестьев ограничил свою задачу разбором и описанием лишь вокальных сочинений Эйслера, оставляя в стороне симфонические, камерные и инструментальные пьесы. Между тем и эти произведения представляют большой художественный интерес. Надо надеяться, что со временем Нестьев еще вернется к эйслеровской теме и дополнит свой полезный и важный труд рассказом и о других сочинениях выдающегося композитора, а также об эстетико-философских и публицистических работах Эйслера, в частности о его книге, посвященной музыке в кино.
*
К 100-летию Ленинградской консерватории
Н. Фишман
20 сентября 1962 года исполнилось сто лет со дня основания старейшей в СССР Ленинградской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. К этой знаменательной дате выпущены две книги. Первая — «Ленинградская консерватория в воспоминаниях». Ее составители поставили перед собой задачу — отразить примерно последние семьдесят лет деятельности первой
_________
Сборник «Ленинградская консерватория в воспоминаниях». Музгиз, Л., 1962, 414 стр., тираж 6000 экз.; «100 лет Ленинградской консерватории», Музгиз, Л., 1962, 302 стр., тираж 4500 экз.
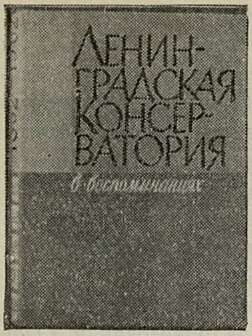
русской консерватории. Такое ограничение имело свои плюсы, поскольку позволило широко привлечь мемуары наших современников и полнее показать процесс становления и развития консерватории как советского музыкального вуза и научного центра.
Ряд воспоминаний (например, Б. Асафьева, М. Гнесина, М. Друскина, И. Ершова, В. Золотарева, Э. Каплана, А. Мелик-Пашаева, Н. Мясковского, А. Оссовского, С. Прокофьева, В. Соловьева-Седого, А. Степаняна, М. Чулаки), включенных в сборник, ранее уже публиковались в журнале «Советская музыка» или в других изданиях. В общем контексте книги эти мемуары теперь воспринимаются как части единого целого.
Во многих воспоминаниях красной нитью проходит вопрос о методе преподавания курса сочинения, о роли цикла теоретических предметов (гармонии, контрапункта и других) в воспитании молодых композиторов. Чрезвычайно интересно прослеживается развитие этой темы в воспоминаниях М. Штейнберга, X. Кушнарева, Ю. Тюлина, Д. Шостаковича, Б. Арапова и других. На глазах у читателей развертывается поучительная дискуссия, подведение итога которой мы находим в воспоминаниях Е. Мравинского. Подвергнув сравнительному анализу сильные и слабые стороны двух противостоявших друг другу в двадцатых годах направлений, он заключает: «Теперь, вспоминая о том времени, я думаю, что наиболее плодотворным было бы сочетать лучшее, что было в обеих школах, — безупречное мастерство академистов и широту, смелость творческих исканий, новаторство школы Щербачева» (стр. 216).
Большое внимание уделено в сборнике особенностям советской консерватории. Как известно, одним из преимуществ нашей системы высшего музыкального образования является то, что подготовка научных кадров в области музыки осуществляется в СССР в тех же вузах, где готовятся композиторские и исполнительские кадры. Тем самым устанавливается более тесная связь музыкальной науки с практикой1. Этим советские консерватории в значительной степени обязаны Асафьеву, который в 1925 году возглавил музыковедческое отделение Ленинградской консерватории и подготовил плеяду научных работников нового типа. В содержательных мемуарных очерках А. Дмитриева, С. Гинзбурга, Г. Тигранова освещается этот период в историк консерватории. Они помогают составить представление об Асафьеве как выдающемся ученом и педагоге. К сожалению, включенные в сборник воспоминания самого Асафьева, относящиеся, правда, к 1937 году, внутренне противоречивы: содержащееся в них утверждение о том, что дореволюционная консерватория «...чуждалась и не понимала мысли о музыке, а тем более музыки как мысли»1, не может не вызвать желания поспорить.
Ряд интересных вопросов поставлен в статьях, исполнителей. Среди них хочется выделить проблему так называемых «открытых дверей». С. Савшинский, П. Серебряков, М. Хальфин призывают возродить эту полезную традицию — одно из завоеваний консерватории советского периода.
Очень живо написаны мемуары А. Гаука, Э. Грикурова, Н. Голубовской, И. Браудо, А. Штримера, С. Масловской. Прекрасным пособием для педагогов и студентов камерно-вокальных и концертмейстерских классов могут послужить проникновенные воспоминания Т. Салтыковой о Зое Лодий. Отрадно, что к участию в сборнике привлечены и оперные певцы, такие, как А. Иванов и С. Преображенская. Их воспоминания (как и И. Храмцова) рассказали читателям о великом русском артисте и замечательном педагоге И. Ершове и ряде других крупных мастеров уже ушедшего поколения. Менее удачны страницы, посвяшенные выдающимся педагогам и исполнителям на духовых инструментах. Как мало (да и суховато) сказано, к примеру, о непревзойденном фаготисте А. Васильеве, чья игра всегда так пленяла слушателей и приводила в изумление всех приезжавших в Ленинград крупнейших зарубежных дирижеров!
Многие авторы, останавливаясь на творческих, музыкально-педагогических, музыковедческих и других проблемах, волновавших Ленинградскую консерваторию, вместе с тем затрагивают тему культурной революции в музыке. С искренним увлечением пишет, например, Е. Малинина об овеянных революционной романтикой концертах-митингах в Большом зале консерватории, о первых субботниках, в организации которых участвовал и Глазунов, о «понедельниках» Академии художеств, о лекциях-концертах на заводах и
_________
1 Во многих странах Запада музыковедческие кадры воспитываются на соответствующих отделениях университетов.
1 «Ленинградская консерватория в воспоминаниях», стр. 80.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Ночной патруль 6
- Комсомольцы 20-х годов 10
- Письма с далекого Севера 17
- За творческую дружбу 25
- Музыкант большой культуры 34
- Д. Толстой и его опера «Сорок первый» 39
- В защиту мира 43
- Наша песня сегодня 46
- Памяти музыканта-революционера 50
- Пролетарский скрипач 51
- Э. Сырмус — М. Горькому 53
- Первый народный 54
- Об Асафьеве 56
- О моем учителе 58
- Прочь, тьма! 63
- «Далекая планета» 67
- У афиши театра оперетты 70
- Путь артистки 78
- Играет Натан Перельман 82
- Большой художник 84
- Камерная певица 86
- Рассказ об оркестре 88
- Музыка одного дня 92
- Заметки о новом сезоне 93
- «Мы любим музыку» 96
- На экране «Спящая красавица» 99
- В рабочем районе 101
- Это актерские удачи 102
- Они энтузиасты 104
- В народных театрах Ленинграда 107
- Оправдать высокое доверие 109
- Изгнать догматизм и школярство 114
- Они верили в будущее 116
- Воспевая революцию 124
- «Антология румынской народной музыки» 127
- «Флорентийский май» 129
- Песни мексиканской революции 135
- Книга об Эйслере 144
- К 100-летию Ленинградской консерватории 145
- Опыт педагога 150
- Г. Уствольская. «Спортивная сюита» 151
- А. Чернов. Поэма для симфонического оркестра 151
- Г. Л. Жуковский 152
- А. А. Степанов 153
- Добрый и умный друг 154
- Октябрю, партии, народу 157
- «Годы и песни» 159
- Там, где живут герои 160
- Полвека — искусству 162
- Новые грамзаписи 162
- Человек большой души 163
- Первый оркестр на севере 163
- Нужные решения 164
- Киноконцертный зал «Украина» 164
- Говорят директора театров 165



