фабриках Питера, проводившихся при активном участии профессуры. Тепло и с глубоким чувством подлинного товарищества говорит Б. Загурский о первых коммунистах и комсомольцах консерватории М. Черногорове, В. Городинском, Б. Кессельмане и о многих других, посвятивших свою жизнь приобщению к искусству широких масс и сыгравших столь важную роль в переводе этого музыкального учебного заведения на новые рельсы. Особенно ярок и колоритен оживающий на многих страницах различных мемуаров образ старого большевика А. Маширова.
В полный голос, широко звучит в сборнике и многоголосный ансамбль представителей братских республик Советского Союза — воспитанников консерватории. Их голоса раздаются из Прибалтики (К. Галкаускас, X. Эллер), из Закавказья (А. Тер-Гевондян, А. Даниэлян, А. Баланчивадзе, И. Туския, Т. Алтунян и другие), из Средней Азии (Е. Брусиловский). В ансамбле равноценно участвуют представители разных поколений. Но всех их объединяет, говоря словами А. Баланчивадзе, «любовь, уважение и благодарность к великому городу, к его консерватории».
Сборники воспоминаний обычно привлекательны тем, что вносят в знакомые портреты какие-то новые штрихи, обогащают биографии драгоценными деталями, личными впечатлениями, зарисовками с натуры. Так и здесь: давно знакомый всем облик Н. Римского-Корсакова существенно дополнен и углублен в воспоминаниях М. Штейнберга; гораздо более близкими, нежели раньше, становятся нам А. Лядов, Н. Соколов, Н. Черепнин и многие другие замечательные музыканты; поистине захватывает сделанное Ю. Тюлиным сопоставление Сергея Прокофьева со сказочным героем, который «...нашел клад, набрал себе драгоценностей, сколько мог, на всю жизнь и ушел, оставив вход свободным...» превосходный портрет Шостаковича-педагога дан в воспоминаниях О. Евлахова.
А с какой задушевностью нарисовал С. Савшинский маленького Вову Софроницкого! Сколько трагизма в непритязательном рассказе Г. Фесечко о днях блокады Ленинграда! Впрочем, всего не перескажешь. «Ленинградская консерватория в воспоминаниях» — это прекрасная сюита, связанная внутренним единством и глубоким тематическим родством. В этом большая заслуга составителей сборника, хорошо продумавших план расположения материалов и успешно воплотивших свой замысел.
Вторая книга, «100 лет» (исторический очерк), как сообщено в предисловии, является коллективным трудом В. Александровой, Е. Бронфин, М. Ганиной, М. Михайлова, Е. Орловой, А. Островского, Ф. Соколова, Г. Фрейндлинг, С. Яхнина. Однако ни в предисловии, ни в справочном аппарате не содержится сведений о том, как распределялись главы и разделы очерка между членами большого коллектива. Думается, что подобная форма публикации научного труда не является вполне рациональной. Читателю не только интересно, но и необходимо знать, кем именно написана та или иная глава.
Очерк подразделяется на две части, первая из которых посвящена периоду с 1862 по 1917 год, а вторая — послеоктябрьскому периоду. К очерку приложен «Краткий словарь педагогов», составленный Т. Дмитриевой-Мей и Д. Светозаровым. Он содержит сведения о педагогах, работавших в консерватории на протяжении столетия, тем самым восполняя один из многочисленных пробелов советской музыкально-справочной литературы.
Первый раздел, несмотря на сжатость, почти конспективность изложения, дает в общем достаточно полную картину того, как возникла и развивалась первая русская консерватория. В первой части очерка весьма плодотворной представляется последовательно проходящая мысль о том, что «Римский-Корсаков сумел объединить заложенные Рубинштейном традиции с устремлениями балакиревского кружка». Многие из приводимых высказываний великих музыкантов прошлого сохраняют свою актуальность и в наши дни. Чрезвычайно интересна в этом смысле рубинштейновская трактовка проблемы общего музыкального образования. Рубинштейн был глубоко прав, видя задачу общего музыкального образования в активном воспитании музыкального слуха народа и настаивая поэтому на преподавании в гимназиях и народных школах не только хорового пения, но и полноценного курса сольфеджио. Действительно, без этого нельзя решить задачу воспитания в народе подлинной музыкальной культуры. Пожалуй, только один серьезный упрек может быть сделан авторам. Историю своей консерватории они рассмотрели почти без всякого учета существования ее московской сверстницы.
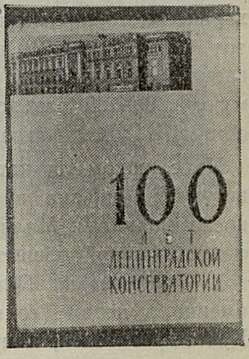
_________
1 «Ленинградская консерватория в воспоминаниях», стр. 103.
Возникает вопрос: неужели же на развитие музыкального образования в Петербурге не оказали влияния педагогические идеи Н. Рубинштейна, П. Чайковского, С. Танеева? Мы говорим об этом главным образом для того, чтобы авторы очерка, посвященного столетию Московской консерватории, не повторили данной ошибки и не забыли осветить вопрос взаимосвязи музыкальной культуры Москвы и Петербурга-Петрограда-Ленинграда, да и других городов России.
Вторая часть очерка, освещающая жизнь консерватории в послеоктябрьский период, подраз деляется на пять глав (VII–XI). В первой из них повествуется о процессах, возникших в новом вузе в годы революции; вторая освещает период, предшествовавший Постановлениям ЦК ВКП(б) от 23 апреля и ЦИК СССР от 19 сентября 1932 года; в третьей изложение доводится до 1941 года; четвертая охватывает годы войны, последняя — послевоенные семнадцать лет. Данная периодизация могла бы быть уточнена в одном пункте, а именно: последнюю главу, пожалуй, стоило бы разбить на две, взяв рубежом Двадцатый съезд КПСС.
Все пять глав второй части и особенно последние три насыщены богатым фактическим материалом, подробными перечнями проводившихся мероприятий. Иной раз даже кажется, что кое-что из этого могло бы без ущерба для выявления авторской идеи перейти в приложение к очерку. Стремясь упомянуть обо всем и обо всех, авторы этих глав мало о чем конкретно рассказали и еще меньше проанализировали. Да и стиль изложения от этого сильно пострадал. Нет-нет да и проскользнет в них язык официального отчета.
Вызывает возражения и предложенная в очерке оценка той позиции, которую занимала профессура консерватории в первые годы Советской власти. Неоднократно подчеркивается, что в первый период Октября профессура, в том числе и передовая, не понимала социалистической революции, не видела того нового, что внесено было в понятие демократии (стр. 107–108). В качестве характерного примера приводится, в частности, тот факт, что в 1918 году группа профессоров во главе с Глазуновым обратилась к А. Луначарскому с просьбой разъяснить, «как надо конкретно понимать демократизацию искусства» (стр. 108).
Не слишком ли категорична эта оценка? Не вступает ли она в известное противоречие с воспоминаниями Малининой, свидетельствующими о необычайной общественной активности передовой профессуры Петроградской консерватории именно в первые годы Октябрьской революции? Как выразителен, к примеру, в этом смысле диалог Малининой с Л. Николаевым, состоявшийся в Москве в 1918 году в помещении мандатной комиссии Общероссийской вузовской конференции. К тому же профессура Петроградской консерватории сыграла одну из ведущих ролей также и на первой специальной конференции по реформе музыкального образования, проводившейся в Москве в 1919 году1. Непонятно, по какой причине авторы очерка не сочли нужным хотя бы упомянуть об этой очень важной конференции.
Далее, можно ли трактовать сам факт обращения группы профессоров к Луначарскому как непонимание или неприятие демократизации искусства? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, необходимо принять в соображение конкретно сложившиеся в ту пору отношения профессуры не только с Луначарским, но и с тогдашним Музыкальным отделом Наркомпроса.
Начальником МУЗО НКП являлся тогда второразрядный композитор-декадент А. Лурье. Он начал свою музыкально-просветительную «деятельность» с того, что заполонил подчиненную ему нотопечатню Наркомпроса собственными сочинениями вроде романсов на слова А. Ахматовой и Вяч. Иванова2. А в марте 1919 года он издал в Петербурге «Декларацию», в которой было напечатано, что Музыкальный отдел, «не находя духа музыки и музыкальной мысли в формальных образованиях академического музыкального искусства и сознавая полную беспомощность усилий и путей в области существующего музыкального образования и воплощения, объявляет отныне музыку свободной ото всех существующих до сих пор ложных канонов и правил музыкальной схоластики во всех ее проявлениях как в области творческой, так и в области музыкальной педагогики»3. Реформа специального (профессионального) образования провозглашалась в этой «Декларации» как «полный разрыв со средой прежних культуртрегеров звука и с областью звукопроизводства и как возврат к свободным путям народного художественного творчества»4. В соответствии с этим на музыкальные учебные заведения, в том числе консерватории, возлагалась обязанность служить только «подспорьем основной цели — внешкольной работе»5.
_________
1 Материалы конференции широко представлены в декабрьском номере журнала «Художественная жизнь» за 1919 год.
2 Эти «опусы» в большом количестве увидели свет в 1918–1920 годах.
3 РСФСР. Декларация НКП. Петербург, 1919, март. Экземпляр имеется в архиве М. Ипполитова-Иванова. ГЦММК, ф. 2, № 224.
4 Там же.
5 Там же.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Ночной патруль 6
- Комсомольцы 20-х годов 10
- Письма с далекого Севера 17
- За творческую дружбу 25
- Музыкант большой культуры 34
- Д. Толстой и его опера «Сорок первый» 39
- В защиту мира 43
- Наша песня сегодня 46
- Памяти музыканта-революционера 50
- Пролетарский скрипач 51
- Э. Сырмус — М. Горькому 53
- Первый народный 54
- Об Асафьеве 56
- О моем учителе 58
- Прочь, тьма! 63
- «Далекая планета» 67
- У афиши театра оперетты 70
- Путь артистки 78
- Играет Натан Перельман 82
- Большой художник 84
- Камерная певица 86
- Рассказ об оркестре 88
- Музыка одного дня 92
- Заметки о новом сезоне 93
- «Мы любим музыку» 96
- На экране «Спящая красавица» 99
- В рабочем районе 101
- Это актерские удачи 102
- Они энтузиасты 104
- В народных театрах Ленинграда 107
- Оправдать высокое доверие 109
- Изгнать догматизм и школярство 114
- Они верили в будущее 116
- Воспевая революцию 124
- «Антология румынской народной музыки» 127
- «Флорентийский май» 129
- Песни мексиканской революции 135
- Книга об Эйслере 144
- К 100-летию Ленинградской консерватории 145
- Опыт педагога 150
- Г. Уствольская. «Спортивная сюита» 151
- А. Чернов. Поэма для симфонического оркестра 151
- Г. Л. Жуковский 152
- А. А. Степанов 153
- Добрый и умный друг 154
- Октябрю, партии, народу 157
- «Годы и песни» 159
- Там, где живут герои 160
- Полвека — искусству 162
- Новые грамзаписи 162
- Человек большой души 163
- Первый оркестр на севере 163
- Нужные решения 164
- Киноконцертный зал «Украина» 164
- Говорят директора театров 165



