О чем свидетельствуют все эти высказывания? О том, что советские музыканты выступили на пленуме против джаза, в частности, импровизационного? О том, что его надо «запретить», а коллективы разогнать? Конечно, нет! Многие ораторы приветствовали тягу любителей музыки к искусству, их желание уделять все свободное время любимому делу. Но о художественных результатах надо судить требовательно, серьезно. Факт, что примерно за полтора-два года своего существования многочисленные саморощенные оркестры не показали почти ничего художественно ценного, оригинального, самобытного, почти ничего, что давало бы им право на ту безусловную общественную поддержку, которую они требуют. «Почти ничего», потому что только один ансамбль, из «Клуба любителей джаза», премированный на конкурсе в Варшаве, несколько выделился на общем фоне, исполнив пьесу А. Тевмосяна «Господин Великий Новгород». Импровизация на яркую, броскую шуточную тему в национальном духе поначалу развивалась интересно: форма сольных вариаций отличалась компактностью, широко применялась полифония. Коллектив продемонстрировал отличное чувство ансамбля и т. д. Что ж, таких артистов можно поддерживать, хотя и им предстоит еще многому учиться, искать свою дорогу. А как быть с теми — большинством, — кто даже не ставит пока перед собой больших художественных задач? Может быть, действительно, пойти путем, который предлагает
Л. Утесов: «Пусть будут самоопределение жанров и творческое сосуществование. А там народ разберется, что нужно, а что не нужно!»?
Думается, такая постановка вопроса преждевременна. Джаз самого Утесова «самоопределился» давно; это чудесный коллектив, который всегда помогал советской песне. Но «самоопределение» многих других оркестров, в особенности же самодеятельных импровизационных, по-видимому, весьма гипотетично. Пока своего творческого лица у них нет. И что же, они будут свободно «творчески сосуществовать» с жанрами большого искусства современности? Это высокое право, и его надо заслужить.
Самодеятельные музыканты говорят: поверьте в нас, и мы создадим оригинальный джазовый стиль. Общественность отвечает: вы что-нибудь сделайте настоящее, тогда в вас поверят. И такой ответ естествен: доверие не просят, его завоевывают...
Сказанное относится, конечно, не только к самодеятельным, но и к некоторым профессиональным коллективам.
Дружеские шаржи И. Шмидта
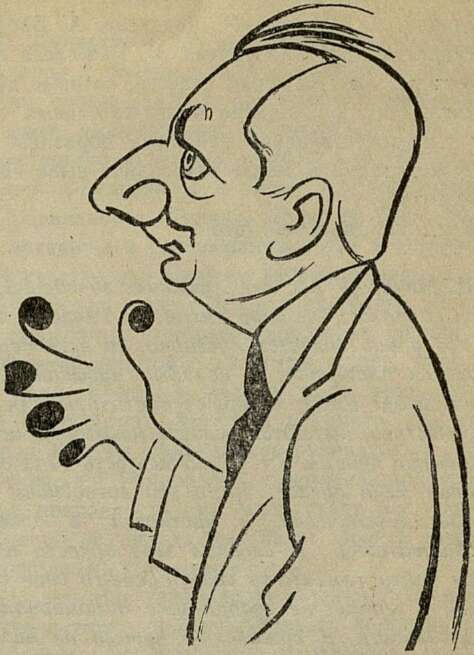
А. Цфасман
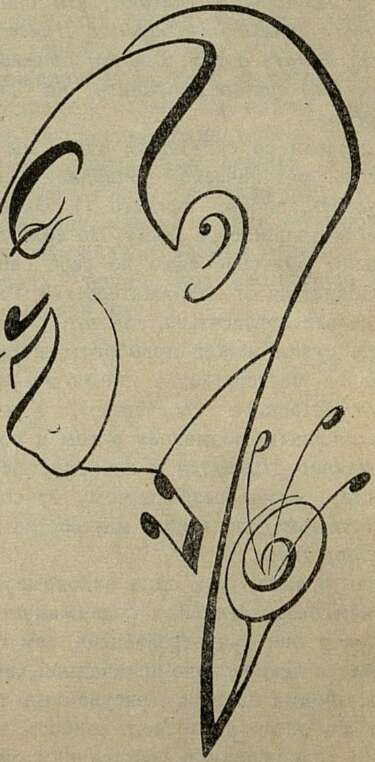
Э. Рознер
Главное здесь репертуар. На пленуме прозвучали хорошие инструментальные пьесы для джазового и симфонического эстрадного оркестров А. Эшпая, А. Петрова, Р. Леденева, А. Бабаева, Б. Троцюка, М. Таривердиева, М. Кажлаева и др. Но сколько еще есть пьес и песен, которые действительно не идут дальше подражательных сколков с соответствующих западных образцов! Почему же именно в джазе так сильно ныне подражательство?
Вот как объясняет это
Н. Минх: «У нас нет... учебных заведений, где люди обучались бы игре именно в джазе, а потому это у нас делается кустарно, то есть переписываются пластинки, и молодые музыканты, которые любят джаз, копируют партитуры для своих оркестров, пытаются освоить некоторые исполнительские приемы и т. д. ...Здесь есть одна вещь, которая меня пугает. Часто это "освоение" происходит механически, в частности, в оркестре И. Вайнштейна... Я слышал этот оркестр и пытался найти там что-то свое, какое-то свое отношение к жанру, не говоря уже о национальной характерности. К сожалению, ничего не нашел... В подражании серьезная опасность... Некоторые товарищи, освоившие приемы джазовой оркестровки и исполнения, считают, что они достигли результатов уже окончательных. Ничего подобного. Надо думать о том, как эти приемы, это техническое мастерство направить на собственное творчество».
Во многом со сказанным здесь мы согласны. И впрямь, механическое копирование (а бывает ли другое?) плохо; оркестр И. Вайнштейна — лишнее подтверждение этому. Но вряд ли профессиональное обучение само по себе способно помочь избавиться от подражательства. Главное же, с чем нельзя согласиться, так это с мыслью, что внешним путем можно приобрести истинно художественное мастерство, а потом «направить его на собственное творчество». Как раз беда многих наших «джазменов» в том и состоит, что они отчаянно стремятся к некоему абстрактному мастерству, якобы независимому от содержания, хотя на самом деле такого мастерства в искусстве не существует.
Здесь, правда, есть одна закономерность. Видимо, чем безразличней к содержанию элементы формы, чем они «универсальней», тем отчетливей проявляется декоративно-прикладной характер искусства. Форма мебели, рисунок на ткани — не правда ли, здесь не встают вопросы глубокого идейного содержания в собственном смысле слова?..
И вот какая мысль невольно напрашивается: теоретики и практики (особенно практики!), отстаивающие универсальность форм джазовой музыки, их способность ассимилироваться в любой культуре, — именно они-то прежде всего и сводят джаз к норме прикладного искусства. Что ж, возможно, он таковым и является. Нужно ли «пугаться» этого факта, означает ли он какое-либо умаление истинной значимости джаза? Нет, такова, вероятно, его природа. И здесь в высшей степени поучительным представляется то, что говорил на пленуме
А. Цфасман: «Многие ли джазы у нас имеют право выступать на эстраде? Очень немногие. Я думаю, что джаз, какой он сейчас есть, с эстрады постепенно исчезнет... Я глубоко убежден, что будет усиливаться интерес публики к серьезной музыке, а джаз должен будет играть в ресторане. Не пугайтесь этого слова: и я, и Утесов играли в ресторане и не считали, что мы себя этим унижали...»
Кто же «выживет» на концертной эстраде? Очевидно, такие ансамбли, как «Дружба» (руководитель — А. Броневицкий), с его ясной эстетической программой, жизнерадостностью, оптимизмом, яркой театрализованной подачей советской песни. Очевидно, настоящий профессиональный симфоджаз, который будет исполнять по-своему глубокие произведения вроде Ноктюрнов К. Караева на стихи Л. Хьюза. Очевидно, различные синтетические формы эстрадно-джазовых коллективов, где найдется место и острой сатире, и мягкой лирике, и непритязательной шутке. И, наконец, настоящие мастера-импровизаторы — не мальчики-энтузиасты, никогда и ничему серьезно не учившиеся, а большие художники, которые создадут свой национальный стиль эстрадной (или джазовой, как хотите!) импровизации. Словом, останется то, что самобытно, что рождено в недрах народной культуры.
Но уход прикладного джаза «за кулисы» концертной жизни вовсе не означает и никогда не будет означать утверждение права на шаблон и подражательность, на свободу от этической чистоты содержания и изящества национальной художественной формы. До тех пор, пока искусство остается искусством, оно должно отвечать этим требованиям. И серьезное, и развлекательное, и «основное», и прикладное.
Организационно-творческие вопросы
Относительно аранжировок и аранжировщиков. У нас есть истинные мастера своего дела, такие, как, например, И. Шахов, инструментовавший для
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Баллада о русских мальчишках» 5
- Главное призвание советского искусства 8
- Поиски и заблуждения 12
- Поиски заблуждения. — И спорить, и действовать (вместо отчета) 19
- В стремлении к современности 28
- Решения мнимые и истинные 33
- К 150-летию со дня рождения А. С. Даргомыжского: «Чухонская фантазия». — Два очерка о Даргомыжском. — Письма А. С. Даргомыжского Станиславу Монюшко. —Страницы из автобиографии Ю. Ф. Платоново 40
- Сэр Джон Фальстаф 61
- Решение партийного комитета Большого театра и КДС от 3 ноября 1962 года 68
- Евгений Светланов. — Заметки о воспитании виолончелистов. — Имени Венявского... — Дирижер, оркестр, партитура. — Конкурс имени Глинки 69
- К 90-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина: В работе над «Алеко». — Комета по имени Федор 83
- Магнитогорцы. — Лев Оборин. — «Бородинцы» играют современную музыку. — Югославская музыка. — Играют Менухины. — Американский хор. — Письмо из Ленинграда 99
- Дело государственной важности. — От редакции 110
- Петербургский диплом Юльюша Зарембского. — Заметки без музыки 117
- За рубежом 127
- Новаторский труд. — Узбекская народная музыка 144
- Наши юбиляры: В. М. Беляев, М. И. Блантер 148
- Хроника 151



