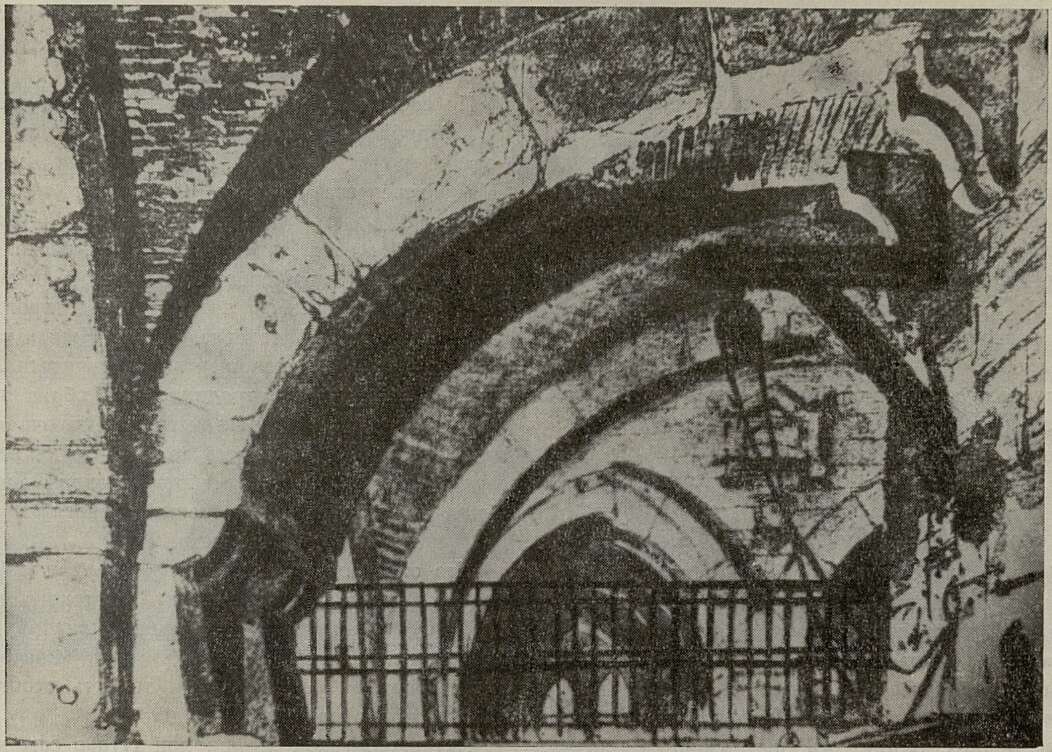
Тюрьма (восьмая картина «Трубадура»). Эскиз художника Карло Феррарио (1860-е гг., «Ла Скала»)
но своим современникам, работавшим в итальянском драматическом театре, композитор нарочито концентрирует в этом «ударном» эпизоде лексические обороты, которые могли вызвать у широкого итальянского слушателя начала 50-х годов только один, вполне определенный круг ассоциаций: «многострадальная мать», «злобные тираны», «кровью злодеев залить приготовленный для тебя костер», «вернуть тебе свободу или погибнуть в бою». Вся эта лексика, хорошо знакомая по речам революционных ораторов и газетным статьям 1848 года, в опере Верди зазвучала с десятикратной силой благодаря гениально простой музыке, которая сама по себе также вызывала ассоциации с революционными песнями эпохи. Это и создало ту мощную кульминацию, тот неожиданный для драмы Гутьерреса революционно-патриотический «взрыв», который был безошибочно понят итальянской публикой на первом же спектакле 19 января 1853 года в римском театре «Аполло» и привел к ураганной, долго не смолкавшей овации. Ведь речь шла об освобождении матери-родины — многострадальной Италии!
Примечательно, что Верди кончал либретто именно третьего акта самостоятельно, без помощи какого-либо другого драматурга1 и явно вразрез с Гутьерресом. Неаполитанский либреттист Леоне Бардаре лишь помог ему в подтекстовке стихов.
Среди хоров «Трубадура», помимо финала третьего акта, есть еще один, также введенный Верди (подобного эпизода нет у Гутьерреса). Это хор цыган, по «массовой» песенности своего языка напоминающий хоры из патриотических опер 40-х годов, прославивших имя композитора. Подобно Байрону, Верди, рисуя образ бедного кочевого народа, воспевает его близость к природе, его простую и вольную жизнь. А музыка, напоминающая светлый, энергичный марш-шествие, непосредственно возникшая из интонаций революционных песен итальянских патриотов, невольно рождает мысль: за свободу надо бороться. Быть может, Верди даже не размышлял на эту тему, просто образ вольных людей подсознательно переключился в эту широкую победную мелодию.
_________
1 Каммарано умер летом 1852 года, так и не успев завершить либретто «Трубадура».
Если рассмотреть последовательную цепь музыкальных эпизодов — хор цыган, кабалетта с хором «К оружию» и, наконец, сцена с закулисным «Miserere», — то оказывается, что музыка Верди вносит существенную поправку в драму Гутьерреса: она создает образ вольного народа, народа, восстающего на борьбу, а затем раскрывает трагедию гибели его сынов, то есть то, что невозможно было открыто высказать в те времена словами. Не потому ли итальянская публика, нимало не смущаясь мелодраматическими ситуациями и средневековыми ужасами сюжета, приняла его немедленно как нечто свое, родное, говорящее о самых волнующих событиях? Именно музыкой сказал композитор своему народу все, что думал о его судьбе.
*
Верди был гений, Гутьеррес — всего лишь талантливый драматург. Но, разумеется, и этого немало. В оценке драматургических достоинств пьесы «Трубадур» композитор исходил из своего большого творческого опыта и из тех новых устремлений, которые пронизывают его оперные замыслы 50-х годов... «Я ищу сюжеты новые, значительные, прекрасные, разнообразные, смелые... смелые до крайности, с новыми формами и т. д. и т. д., и в то же самое время сюжеты, возможные для омузыкаливания»1, — писал он 1 января 1853 года, когда театр «Аполло» уже репетировал «Трубадура», а композитор с увлечением работал над новой оперой «Травиата».
Но и в период сочинения «Трубадура» Верди неустанно говорил о «новизне и свободе формы», о «силе и оригинальности», которые он видит в драме Гутьерреса.
Дело, как мы уже убедились, не в социально-революционной остроте, которой в испанском «Трубадуре» не было, а в вольнолюбивой и антиклерикальной направленности пьесы (что во времена Гутьерреса, да еще в Испании, свидетельствовало об огромной смелости!) с ее рельефно и остро очерченными характеристиками, в интересных драматургических ситуациях и нетрадиционности конфликта.
Если в чем и можно упрекнуть Каммарано, то не в искажениях или драматургической «отсебятине», а в известном упрощении характеров. К счастью, это почти не коснулось образа Азучены. Композитору же удалось обогатить и образ Манрико, наделив «мятежного рыцаря», поборника справедливости вообще, чертами пылкого революцнонера и компенсировав тем самым огромные купюры в его роли, связанные с сокращением всех «монастырских» эпизодов.
По сравнению с литературным первоисточником в либретто пострадали характеристики Леоноры и графа.
У Гутьерреса Леонора переживает огромную душевную драму. Она называет себя «клятвопреступной женой Христа», терзается раскаянием за свою гибельную любовь, но в этой любви ее единственное счастье, и поэтому она с героизмом отчаяния идет к ненавистному дону Нуньо, чтобы ценой страшного самопожертвования спасти Манрике. В либретто это традиционный образ влюбленной девушки, которая пытается помочь своему избраннику. Но и здесь музыка Верди вносит свои поправки, обогащая образ Леоноры множеством психологических оттенков, внося в него поэтичность и глубину чувств.
Что оказалось невозвратимо потерянным для оперы, так это характеристика жестокого лицемерного тирана графа ди Луна (дона Нуньо), добровольно берущего на себя роль карателя и преследователя «мятежников», то есть сторонников графа Урхельского.
Интересен такой штрих: дон Нуньо сам хочет насильно увезти из монастыря уже постригшуюся Леонору и посылает за ней своих приспешников Гусмана и Феррандо, гарантируя им полную безнаказанность. Когда же выясняется, что Леонору похитил Манрике, он первый призывает на них громы небесные за нарушение «святого таинства». С полным правом говорит ему Манрике над трупом Леоноры в финальной сцене:
— Да, изверг ты, палач! Так что ж, быть может,
Ты ищешь новой жертвы?.. Подходи!..
Она уже готова — жаждет смерти.
В либретто образ графа ди Луна смягчен из-за сокращения диалогов графа с братом Леоноры и его приспешниками. Он выглядит в опере не жестоким тираном, а всего лишь мстительным ревнивцем, и музыка ничего не смогла здесь изменить: партия «благородного баритона» не вносит в характеристику графа каких-либо «разоблачительных» черт.
Но что особенно важно отметить — это драматургию последнего акта пьесы Гутьерреса, не только полностью сохраненную либреттистом, но и, по-видимому, обладавшую какими-то чрезвычайно привлекательными чертами для композитора.
Сколько писалось в музыковедческой литературе о гениальной находке Верди — сцене с «Miserere», где мрачное пение монахов, «благослов-
_________
1 Джузеппе Верди. Избранные письма. Музгиз, М., 1959, стр. 99.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- У человечества есть будущее! 5
- Пусть звенят песни радости! 5
- Говорить правду! 6
- Люди идут за солнцем... 6
- Музыканты мира, за круглый стол! 7
- Объединяйтесь, миллионы! 7
- Война — нет, музы — да! 8
- Пусть поют колокола мира! 8
- Первый современный 11
- Развивать свой стиль 20
- «Все будет хорошо» 25
- Симфонические гравюры Кара Караева 36
- Швейк на оперной сцене 41
- В Алма-Ате... 44
- Об опере, которая не была написана 45
- Прокофьев играет в Москве 52
- О музыкальном языке А. Онеггера 56
- Пути и перепутья 61
- Радостная победа 66
- Размышления после конкурса 70
- Слушая пианистов... 73
- М. Дейша-Сионицкая 84
- Девятая симфония Малера 91
- Три пианиста 92
- Поэма «Памяти Сергея Есенина» в рабочей капелле 95
- Александр Ведерников 95
- Интересный концерт 96
- Играют студенты Казанской консерватории 96
- Гости с Верховины 96
- Концерты органистов 97
- Хор из Чили 98
- Концерты в городах. Ленинград 98
- Авторский концерт. Ярославль 100
- Поет болгарская певица 100
- Верди и Гутьеррес 101
- У потомков Джангара 108
- Воспитание чувств 111
- Из школы в жизнь 112
- О том, что нас волнует 115
- «Интернационал» в нашей стране 117
- Песни испанского Сопротивления 125
- Мои впечатления о советских певцах 131
- Национальный гений 133
- С Дебюсси за роялем 138
- Пестрые страницы 146
- Наши друзья из Киргизии 151
- Посланцы казахской земли 151
- Музыка Северного Кавказа 153
- Баку, Ереван, Махачкала 153
- Юбилей «Кероглы» 154
- Вести со смотра 155
- Третий международный 155
- Добро пожаловать в «Страну Пионерии»! 156
- Сороковой сезон бетховенцев 157
- О труде, о подвигах 157
- Их нынче восемнадцать 158
- Оперные вечера гнесинцев 158
- Добрый путь вам! 159
- «Сказки Гофмана» 160
- Таллинская «Музыкальная весна» 160
- Подлинный друг 161
- Записывается Марио дель Монако 162
- В защиту школьных хоров 163
- Премьеры 163
- Пора подумать о покупателе 164
- Побольше бы таких! 165
- Памяти ушедших. М. И. Вериковский 166



