ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО
Навстречу конкурсу имени П. И. Чайковского
Желаю удачи!
Г. НЕЙГАУЗ
Соревнование в самых различных областях человеческой деятельности — явление давнего и почтенного происхождения. От древних греков мы унаследовали не только олимпийские игры: великие драматурги Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан не раз участвовали в соревнованиях на лучшую трагедию или комедию и не раз бывали... «биты» ныне безвестными коллегами, чьи имена сохранились лишь в памяти филологов и историков древнегреческой литературы!
*
С 1933 года, со времени Первого всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей, на котором 17-летний Эмиль Гилельс завоевал первую премию, я не раз бывал членом жюри у нас в СССР, был и в Варшаве на двух шопеновских конкурсах (в 1937 и 1960 гг.), и на скрипичном конкурсе имени Венявского (в 1935 г.). Мыслями, возникшими на основе этого многолетнего опыта, я и хочу поделиться с читателями.
Что меня всегда волновало — это жгучий интерес широчайшего круга слушателей к музыкальным соревнованиям: битком набитые залы, добровольное высиживание с утра до вечера (не то что мы, жюри: мы ведь обязаны), несмотря на неизбежное переутомление от обилия звуков и бесконечных повторений, особенно так называемых конкурсных пьес. Приведу только две красноречивые цифры. На шопеновском конкурсе в 1960 г. «Полонез-фантазия» был прослушан 66 раз, ноктюрн до минор — 53 раза. Эта страстная и бескорыстная заинтересованность публики как самим ходом конкурса, так и его конечным исходом (распределение премий) имеет в общем две основные причины. Одна из них — это, конечно, чисто спортивный интерес: кто же первый?! (Гораздо меньше интереса, чем «первые», вызывают, разумеется, «четвертые», «седьмые» и особенно «последние»). Вторая причина несравненно более благородная. Международный конкурс музыкантов-исполнителей, как и любой конкурс в области искусства, является ведь прежде всего смотром состояния мировой культуры в данной области. И члены жюри, съезжающиеся со всех концов света, и публика, переполняющая залы, получают ясное представление о достижениях исполнительского искусства на нашей планете, о работе консерваторий, педагогов. Международный конкурс, как лучшее, незаменимое средство обмена опытом, укрепляет взаимопонимание стран и народов, служит делу мира и дружбы во всем мире. Вот что по-настоящему глубоко волнует всех и каждого; вот она, главная причина успеха подобных мероприятий, безразлично: будет ли это шахматный турнир или конкурс имени Чайковского. Конкурсы, посвященные произведениям одного композитора: имени Шопена в Варшаве, Бетховенский конкурс, состоявшийся в прошлом году в Вене (к сожалению, мы почему-то не участ-
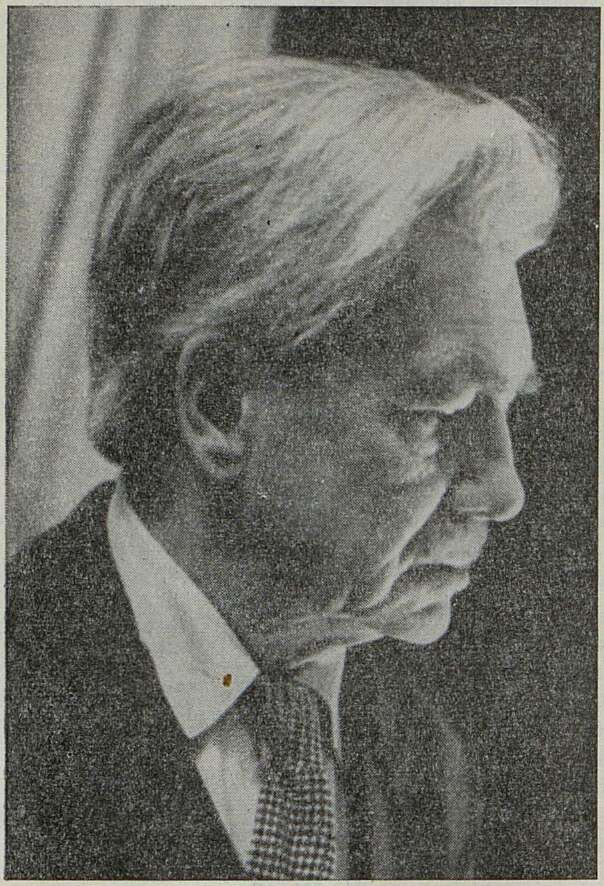
Фото С. Хенкина
вовали в нем), конкурсы имени Чайковского — интересны и назидательны именно своим монотематизмом. Как играют, как понимают, скажем, Бетховена в различных странах, — это же интереснейший, серьезный, важный вопрос, волнующий всякого музыканта я любителя музыки!
Должен подчеркнуть, что условия конкурса имени Чайковского представляются мне очень продуманными и правильными. И вот почему: соревнующиеся исполняют, кроме произведений Чайковского, и сочинения других композиторов — от Баха и Моцарта до наших современников. Благодаря этому жюри и аудитория получают достаточно широкую возможность справедливого суждения об участниках конкурса.
Если бы на шопеновских соревнованиях полагалось, кроме пьес Шопена, играть Баха, Моцарта и хотя бы некоторые из особо любимых Шопеном сонат Бетховена, а также произведения тех композиторов, что столь многим обязаны Шопену, — назовем имена Скрябина, Дебюсси, Шимановского, Лядова!.. Насколько это обогатило бы представление слушателей об исполнителях, насколько интереснее, разнообразнее был бы сам конкурс, как выиграло бы чисто музыкальное значение его вопреки чисто спортивному!
Наша система конкурсных отметок-баллов также кажется мне более правильной, чем в Варшаве. Там после каждого исполнения член жюри немедленно передавал некоему молодому человеку, «собирателю оценок», отрывной листок с фамилией исполнителя и баллом (от 1 до 25). Листки эти сразу же опечатывали и помещали в сейф, который обнаруживал свое содержимое только трижды: после первого, второго и третьего, финального, тура. На Первом конкурсе имени Чайковского процедура эта не была столь механизирована, особенно на третьем туре. Мы единогласно решили никаких отметок не ставить, а просто путем обмена мнениями и открытым голосованием распределить премии и дипломы. Иногда мне было крайне неприятно (кроме тех случаев, когда играли очень хорошо или очень плохо) тотчас же выставлять цифровую оценку играющему, иметь о нем окончательное (!) суждение. В этой системе отметок, принятой, кажется, всюду на Западе, коренится одна из причин частых конкурсных ошибок. О них стоит сказать несколько слов1. Глубоко убежден, что настоящую ценность соревнующегося молодого музыканта устанавливает не жюри, а народ — аудитория, «публика», которая своим сочувствием или иесочувствием, восторгом или равнодушием, приятием или неприятием определяет в конце концов успех или неуспех артиста и таким образом безошибочно решает вопрос о его «ранге» исполнителя.
В связи с этим не могу не привести хотя бы два случая (на самом деле их неизмеримо больше!) конкурсных просчетов, впоследствии «прокорректированных» слушателями, среди которых, конечно, главную роль играли ценители и знатоки.
На Первом конкурсе имени Рубинштейна, в 1890 году, председательствовал сам Антон Григорьевич. Первой премией наградили пианиста Н. Дубасова, ничем особенным не прославившегося, кроме того, что он преподавал в Петербургской консерватории и изредка давал концерты. Участвовавший в том же конкурсе Ферруччо Бузони получил премию только как композитор.
_________
1 На Шопеновском конкурсе в 1960 г. десятую премию (а всех было 12) получил один из лучших пианистов М. Блок (Мексика). Это побудило почетного председателя жюри Артура Рубинштейна выдать ему особую премию своего имени.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Нас вдохновляет партия 5
- Двадцать два вопроса 18
- За работу, товарищи! 22
- Творчество и эстетика 26
- Без этого нет художника 33
- Весенние силы искусства 37
- Поет Эстония 39
- Заметки о хоровом искусстве 44
- Поднять культуру духовых оркестров 51
- Становление таланта 54
- Первые успехи 60
- «Прицел вперед!..» 64
- Наступать широким фронтом 70
- Требовательный разговор 75
- Туркменские контрасты 78
- Молодежь впереди 83
- «Судьба человека» в Киеве 86
- 18. Обсуждаем оперы «Судьба человека» и «Не только любовь» 88
- Оперетта — жанр музыкальный 93
- Первый коми балет 98
- «Знатный жених» 100
- Заметки музыканта 103
- Как создавалась оратория «На страже мира» 108
- Желаю удачи! 117
- Они будут играть в Москве 120
- Из области фортепьянной техники 122
- В концертных залах 123
- Премьера Четвертой 124
- Духовное богатство артиста 125
- На берегах Пины 127
- Так ли надо отвечать на сигналы печати? 135
- Письмо из ГДР 136
- Монолог П. Хиндемита 138
- Гости советских композиторов 140
- Пестрые страницы 141
- Пианист швырялся белыми бобами 145
- Из иностранного юмора 146
- Пошлость стотысячным тиражом 147
- Дружеские шаржи 150
- Д. Кабалевский на Украине 151
- Нужное дело 153
- Вести со смотра в Грузии 153
- Говорят женщины-музыканты 153
- На современную тему 154
- Хейно Эллер 155
- Эти вопросы ждут решения 156
- Улица Петраускаса 157
- Музыка Рабиндраната Тагора 158
- На родине «Элегического полонеза» 159
- «Хотим чаще слушать советскую музыку» 159
- Имени Римского-Корсакова 160
- Наш народный оперный 161
- Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля 162
- Когда профессия — творчество 163
- Памяти ушедших. Г. А. Григорян 164
- Памяти ушедших. А. А. Берлин 165



