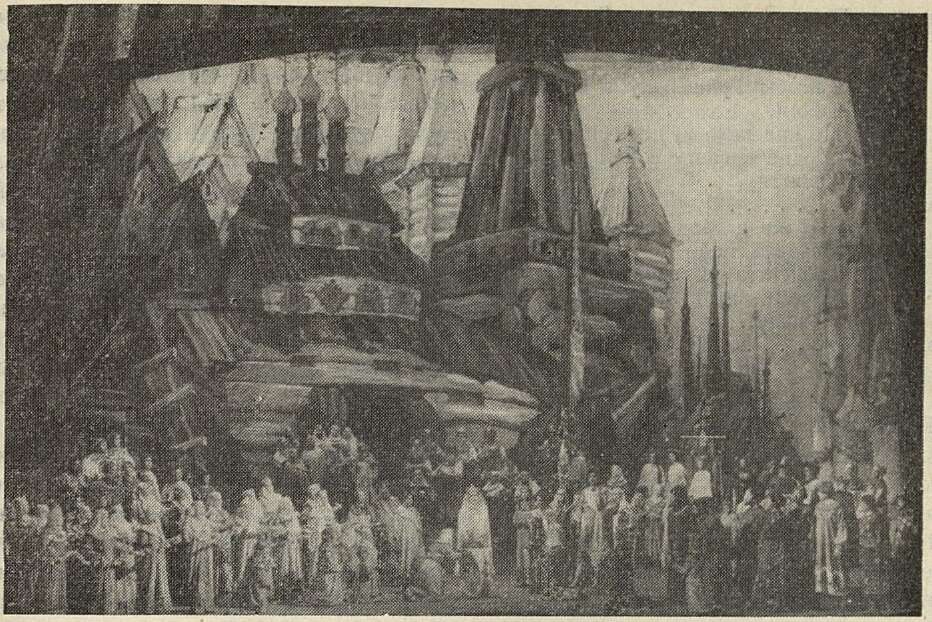
«Сказание о невидимом граде Китеже». Сцена из второго акта оперы
Феврония освобождает предателя и клеветника от татарских пут. Эта, значительно более откровенная, проповедь непротивленчества почему-то не вызывает никаких опасений и благополучно избегает купюр.
На недопустимость пропуска сцены письма и на ее ключевое положение в замысле оперы указывалось неоднократно. Об этом убежденно писал дирижеру первой московской постановки Римский-Корсаков: «Письмо Февронии, — настаивал он, — есть кульминационный момент всего ее образа. Достигшая блаженства Феврония вспоминает и заботится о своем лютом враге и губителе Великого Китежа. Пусть слушатели вникают в это, а не относятся к последней картине оперы, как к апофеозу»,1 — замечает композитор, разумея под апофеозом пустое и бессодержательное славословие.
Десятью годами позже А. В. Луначарский негодовал по поводу аналогичным образом «исправленного» финала: «Опера, очевидно, искалечена. Я желал бы быть правым в своем предположении, что искалечена она внешними причинами, соображениями цензурного характера. Основной образ, носительница всей идеи пьесы, дева Феврония получает, благодаря последней картине, облик совершенно извращенный и, я бы сказал, возмутительный... Я отрицаю всеми силами души, чтобы тот талант, который мог столь светлыми красками нарисовать героиню абсолютного альтруизма в образе девы Февронии, допустил, будто дева Феврония могла забыть совершенно, без тени воспоминания, о бедном Гришеньке, который, зверю подобный, убежал в лес. Вот вследствие этой черствости девы Февронии я никогда не признаю ее святой»2.
В новой постановке Феврония вспоминает о «бедном Гришеньке», его имя упоминается по ходу действия, но это не спасает положения. В результате купюр, отмеченных нами прямыми скобками, текст заключительной части финала приобретает следующий вид:
_________
1 Письмо Н. А. Римского-Корсакова к В. И. Суку от 29 января 1908 года. Н. А. Римский-Корсаков. Литературные произведения и переписка, том I, М., 1955, стр. 311.
2 А. Луначарский. «Мысли о “Граде Китеже”». Газета «Жизнь искусства», 5 декабря 1918 года, № 29.
Феврония:
Там, в лесу, остался Гришенька,
Он душой и телом немощен,
Что ребенок стал он разумом.
Как бы Гришеньку в сей град ввести?
Кн. Юрий:
Не приспело время гришино,
Сердце к свету в нем не просится.
Феврония: [. . . . . . . .]
Кто же в град сей внидет, государь мой?
Кн. Юрий:
Всяк, кто ум нераздвоен имея,
Паче жизни в граде быть восхощет.
Феврония: [. . . . . . . .]
Ну, тогда идем, мой милый!
Равнодушие Февронии, с такой легкостью отказывающейся от своего намерения помочь «заблудшему» соотечественнику, вызывает неожиданное и неприятное ощущение глубокой фальши и душевной неполноценности героини. Такой финальный штрих, возникший, разумеется, помимо воли постановщика, одним ударом опрокидывает создаваемое на протяжении всей оперы представление об идеальности Февронии.
Так или иначе, последняя картина оперы, как и в прежних постановках, выродилась в «апофеоз» самого дурного толка и придала Февронии, говоря словами Луначарского, «облик совершенно извращенный и возмутительный».
Нужно иметь в виду еще и то, что сокращение финала почти наполовину резко нарушает архитектоническое равновесие целого, превращая заключительную картину в случайный куцый «довесок», безнадежно теряющийся в монументальных масштабах оперы. Это досадное ощущение незаконченности усугубляется крайне неудачным декоративным оформлением финала, асимметричным, плоским, лишенным перспективной глубины, однообразным по колориту.
Можно лишь пожалеть, что постановщики пренебрегли подробнейшими и очень конкретными авторскими указаниями на сценическую обстановку финала; эти указания основаны на самом внимательном изучении многочисленных памятников древнерусской литературы, в которых запечатлелись представления народа о невидимых городах. Прямой долг театра — продолжить свою работу над «Китежем» и пересмотреть решение финала с целью приближения его к замыслу Римского-Корсакова.
Ведущая роль в спектакле принадлежит, бесспорно, музыке (дирижер С. Ельцин). Она течет нескончаемым мощным мелодическим потоком, в котором периодически нарастают и убывают широкие упругие волны эмоционального напряжения. Сдержанные, как кажется иногда, несколь-
«Сказание о невидимом граде Китеже». Сцена из третьего акта оперы
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 3
- Пути современного новаторства 5
- Творчество В. Салманова 18
- Расцвет киргизской музыки 23
- Замечательное содружество 29
- Киргизские мастера искусств в Москве 33
- О болезнях нашей киномузыки 34
- Романсы Ю. Мейтуса 39
- Новый скрипичный концерт 43
- О некоторых основах стиля Римского-Корсакова. Очерк 2 46
- Вокальный стиль Вагнера 57
- Михал Клеофас Огиньский 64
- Ференц Легар — классик оперетты 73
- Забытые работы В. Одоевского 80
- Возрожденная опера 84
- На спектаклях Свердловского театра 90
- «Ак-Шумкар» 98
- Фрагменты автобиографии 102
- Владимир Софроницкий 108
- Репетиционная работа с оркестром 113
- Вдохновенное искусство корейского народа 118
- Эстрадный оркестр О. Лундстрема 119
- Симфонические концерты летом 121
- Гастроли воронежского оркестра 122
- На селе ждут артистов 123
- В городе текстильщиков 125
- Поют эстонские учителя 127
- Музыкальные классы в Тушино 129
- Брянские песенницы 130
- Откровенный разговор с польскими друзьями 131
- В. Фуртвенглер о музыкальном модернизме 134
- Творчество Эугена Сухоня 136
- Арабская музыка 138
- На гастролях в народном Китае 139
- Памяти М. Шнейдера-Трнавского 141
- Исследования китайских музыковедов 142
- По страницам английского журнала 143
- Поль Робсон в Москве 145
- Композитор-гуманист 148
- Краткие сообщения 148
- Эстрада, эстрада… и еще раз эстрада 150
- Газеты — молодежи 151
- Музыка на радио 151
- Книга о грузинской книге 153
- Теоретические работы П. И. Чайковского 157
- Коротко о книгах 158
- А. Пахмутова. Ноктюрн для валторны и фортепьяно 158
- Рихард Вагнер. Романсы на стихи французских поэтов для высокого голоса с фортепьяно 158
- В. Ахобадзе. «Сборник грузинских (сванских) народных песен» 159
- Об издании и распространении нот 160
- Музыкальные школы приблизить к жизни! 162
- Незаинтересованность в эстетике 163
- Упорядочить производство грампластинок 164
- Мастера искусств на целинных землях 166
- В честь сорокалетия комсомола 167
- Музыковедческий пленум в Киеве 168
- Новые произведения белорусских композиторов 169
- Творческие встречи 169
- Гастроли Белорусского оркестра 169
- Гости столицы 170
- Хороший почин ереванцев 171
- Музыкальная школа на Дальнем Севере 172
- В несколько строк 172
- М. И. Сахаров 174



