ре традиционный «голубой» образ (да таким он, в сущности, и является по замыслу авторов). Ходульную, схематичную фигуру создает и Ю. Богданов. Да и как, в самом деле, ярко сыграть заурядного героя, который по первому слову верит, будто его невеста — похитительница несметных сокровищ!
Есть в «Фонариках» и отдельные актерские удачи. Великолепно, с гротескным блеском проводит В. Алчевский сцену безумия Дудынина. Искренностью и непосредственностью привлекают А. Пиневич (Федор Недайбог), Н. Рубан (Тимофей Бубликов). Запоминаются суматошная Липа (В. Марон), официант Маслюк (Г. Заичкин).
И все же «режиссура поведения» персонажей — до обидного бедна: тесно им в предложенных авторами образах! Полновластным хозяином сцены, живущим богатой мимической и танцевальной жизнью, чувствует себя, кажется, только Семен Ратников в колоритном (даже с некоторым нажимом) исполнении А. Ткаченко. Актер создает выразительный образ «стиляги низшего ранга» — человека беспутного, но ловкого, в глазах которого высшая добродетель — пренебрежительное отношение к жизни.
Центром хореографического действия спектакля, так сказать, экстра-гвоздем программы является уже упомянутое выступление «заводской самодеятельности» (четвертая картина). Независимо от воли и желания авторов, такие «ударные» эпизоды всегда оказываются воплощением определенного эстетического идеала. Каков же он, этот идеал, в «Фонариках»?
Сделано, кажется, все, чтобы выступление «самодеятельности» выглядело как можно более красиво. В погоне за красотой постановщики не остановились на обычных традиционных эффектах. Имитируя приемы венского «Айсревю», они украсили юбки танцовщиц... электрическими лампочками («фонариками»). Что ж, может быть, это и красиво — для самостоятельного эстрадного номера. В конце концов, не каждая деталь в искусстве должна быть высокосодержательной. Но сделать подобный пустяк кульминационной массовой сценой в произведении, посвященном рабочей молодежи — значит не знать ни меры, ни такта в обращении с важнейшей темой.
Сопоставляя сцены в общежитии с «феерической красотой» четвертой картины, авторы словно хотят показать две стороны быта своих героев: вот будни, а вот праздник; там проза, а здесь — поэзия. С чьей точки зрения поэзия? — спросим мы. Во всяком случае, не с точки зрения героев произведения, какими они рисовались воображению драматурга — не с точки зрения заводской молодежи.
Да, новое нелегко дается в искусстве. Поиски нового могут привести к неудачам, ошибкам, срывам. И тогда дело критики — заботливо помочь художнику разобраться в том, что произошло. Но о каких поисках нового может итти речь при разборе «Фонарей-фонариков»?
Две героини — «голубая» и «разбитная». Ходульный главный герой. Несуразная интрига. Разрыв героев в финале второго акта. Апофеоз в загсе — три счастливые пары. И в качестве идеала красоты — убогий эффект подсвеченных юбок, достигнутый по принципу «Даешь изячную жизнь!»...
Увы, тускло горят «Фонарики»! Не освещают они огромной значимости тему, положенную в основу пьесы.
Два фильма — два решения
Л. ЖИВОВ
Среди новых кинофильмов не часто можно встретить такие, где вся музыка полностью соответствовала бы характеру режиссерского замысла. Тем отраднее отметить это соответствие в недавно вышедшей картине «Память сердца» (студия имени М. Горького, режиссер Т. Лиознова, композитор Л. Афанасьев). Фильм этот чужд риторики, полон волнуюших душевных переживаний; темп же кинематографического действия несколько замедлен, что позволяет композитору широко развернуть собственно музыкальные эпизоды. От этого во многом выиграли драматургически центральные сцены: они приобрели художественную значимость, в первую очередь благодаря мелодически выразительной и сердечной музыке.
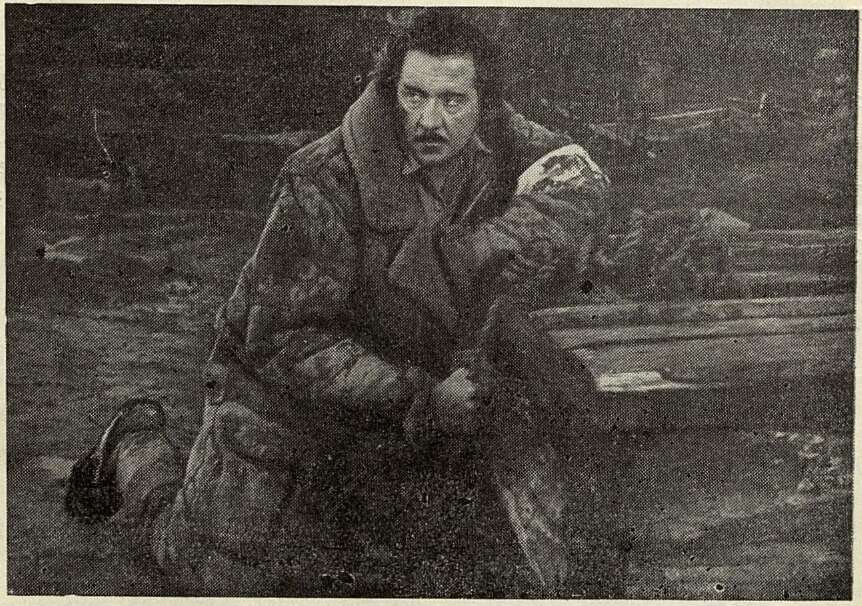
Кадр из фильма «Память сердца»
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 3
- Развивать русские национальные традиции 5
- Весна закавказской музыки 11
- Против псевдолирики 22
- Совещание по вопросам музыкальной критики 28
- О подготовке композиторов в РСФСР 33
- К спорам о современной гармонии 40
- «Солнце над степью» 53
- Молодые ленинградцы 56
- Хоровое творчество Е. Козака 62
- Молдавский скрипичный концерт 66
- После гастролей французского балета 70
- Яркая тема в тусклом свете 79
- Два фильма — два решения 84
- О гармонии С. Прокофьева 87
- Воспоминания о Римском-Корсакове 94
- Два автографа Бетховена 100
- Леопольд Стоковский в Москве 107
- Привет и дружественное рукопожатие музыкантам СССР 108
- Эжен Изаи 113
- Из высказываний Изаи о музыке и музыкантах 118
- Мешают ли конкурсы учебе 120
- Заметки о концертном сезоне 122
- «Страсти по Матфею» 126
- Советская камерная музыка 127
- Воронежский симфонический оркестр 128
- Запевалы воронежских полей 129
- Слушая хор имени Пятницкого 130
- На вечерах молодых певцов 131
- Творческие встречи композиторской молодежи 134
- Молодежь четырех республик 135
- Д. Кабалевский и А. Хачатурян у тружеников Сибири 136
- «Белые ночи» 139
- Музыкальная жизнь Риги 141
- В Ташкенте 142
- Музыка на курортах. Кисловодск 143
- Музыка на курортах. Сочи 145
- Музыка или мелика? 146
- Фестиваль в Веймаре 150
- Венский музыкальный сезон 152
- Из японского дневника 155
- На Брюссельской выставке 160
- Против «желтых песен» 164
- Краткие сообщения 164
- Музыка в произведениях М. Горького 166
- Популярная книга о Чайковском 168
- Композиторы «Могучей кучки» о народной музыке 168
- Школьный песенник 169
- Летние гастроли в Москве 170
- В музыкальных театрах 171
- Клуб любителей музыки 172
- Старейшая музыкальная школа 173
- Молодые дирижеры Советской Армии 173
- Шестидесятилетие М. Тица 173
- В несколько строк 174



