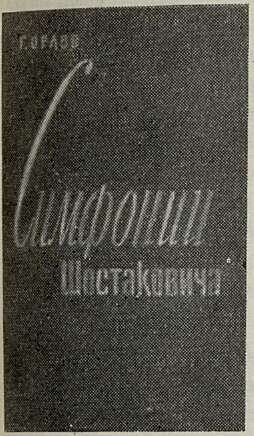
поставил перед собой ясную цель — дать им эстетическую оценку. И надо признать, что в основном эта задача решается успешно.
Композиция книги весьма незатейлива. Орлов переходит от симфонии к симфонии (начиная с Первой и кончая Одиннадцатой). Анализу каждой симфонии посвящена отдельная глава. Исключение составляют Вторая, Третья и Четвертая симфонии, объединенные в один раздел под названием «Кризис».
Автор стремится раскрыть глубинные жизненные истоки симфонизма Шостаковича. Последовательно и умело показывает Орлов неразрывное, «кровное» единение Шостаковича-художника с реальной действительностью. Орлов обращает внимание и на произведения других жанров, стремясь воссоздать более или менее цельную картину художественных тенденций композитора в период создания той или иной симфонии. Особенно значительное место уделяется анализу откликов прессы на каждую симфонию. Автор как бы стремится очистить возвышенные творения Шостаковича от шелухи критических заблуждений, от всего наносного и «скоропалительного», а подчас и несправедливого. Хорошее намерение автора, однако, не предохраняет его самого от подобных же ошибок, о чем будет сказано дальше.
Очевидное достоинство книги — музыкальность. Анализ образного строя отличается живостью, эмоциональной увлеченностью, содержит немало интересных тонких ассоциаций, большинство из которых вполне уместно. Раскрытие идейно-художестненных концепций симфонических циклов, как правило, убеждает.
Некоторые симфонии Шостаковича у Орлова впервые получили научную, аргументированную оценку. В этом смысле выделяется глава, посвященная Шестой симфонии. Выдвигая тезис о симфонической драматургии «устойчивого контраста», выпукло контрастирующих между собой образных массивов» (стр. 111–112), автор доказывает ее классические истоки, глубоко обосновывая художетвенную правомочность специфического строения Шестой симфонии. Серьезно исследована также Девятая симфония. Орлову удается представить ее как органическую часть творчества Шостаковича времени (параллель со Скрипичным концертом интересна и вполне оправдана).
Немало ценных и интересных наблюдений содержится также и в анализе других симфоний. К примеру, тонко прослеживаются интонационные истоки тематизма Седьмой и Восьмой симфоний (в последней автор убедительно доказывает единство интонационной природы всех частей цикла). В главе, посвященной Одиннадцатой симфонии, содержатся принципиально важные положения о симфоническом преломлении Шостаковичем русской революционной песни. Суммируя свои наблюдения по этому поводу, автор справедливо замечает: «Если Глинка, обобщив многочисленные попытки своих предшественников, достиг органического слияния духа и стиля крестьянской песенности с высокоразвитыми формами и средствами современного ему искусства, то в середине XX века Шостаковичу принадлежит аналогичная заслуга по отношению к новому слою рабочей революционной песни» (стр. 288).
И все же ряд существенных недостатков значительно снижает впечатление от книги. Прежде всего обращает на себя внимание некоторая промежуточность самого жанра рецензируемой работы. В предисловии автор расценивает ее как «путеводитель с комментариями». Однако «комментарии» к каждой симфонии настолько обширны, что книга в целом воспринимается почти как исследование. Но до настоящего исследования она не дотягивает из-за отсутствия развернутых выводов, касающихся принципов тематического развития, тембровой драматургии (эта сторона вообще не попала в поле зрения автора) и главным образом из-за отсутствия раздела, обобщающего порою ценные наблюдения. Последнее обстоятельство не позволяет извлечь из книги сколько-нибудь концентрированного, целостного суждения о сущности симфонизма Шостаковича. А надо сказать, что такого рода обобщение в столь обширной книге момент не только желательный, но просто обязательный. В предисловии автор обещает «попутно» коснуться «некоторых принципиальных музыкально-эстетических проблем общего характера, например, таких, как вопрос об исторических типах и жанровых разновидностях симфонизма, о специфических формах образности в инструментальной музыке, о различных трактовках программности, о трагедии и трагедийности, о жизненных интонационных прообразах мелодики и т. д.» (стр. 4). При этом Орлов предупреждает читателя, что не собирается суммарно «спроецировать» эту проблематику на стиль Шостаковича в целом. Между тем обобщенная формулировка принципов симфонизма крайне необходима была и самому автору. Она помогла бы избежать многих недоговоренностей и неточностей в анализах.
В своих суждениях по поводу той или иной симфонии Орлов действительно касается таких понятий,
как трагедийность, единство общего и индивидуального, иногда указывает на влияние Бетховена, Чайковского, говорит и о «шекспировском» начале в музыке Шостаковича. Но все эти замечания носят частный характер. Подчас отсутствие четкой предварительной установки приводит к досадным казусам. Так, рассматривая экспозицию первой части Пятой симфонии, Орлов замечает: «Несмотря на свою краткость, именно начальная тема (тема вступления. — В. 3.), а не следующий за ней развернутый лирический, камерный по звучанию эпизод, становится исходным тезисом произведения» (стр. 73–74). Но ведь этот самый «эпизод» не что иное, как тема главной партии. В ее соотношении с темой вступления завязка драмы. Если бы Орлов объяснил смысловое соотношение тем экспозиции, то гораздо яснее выявилась бы природа их образно-смысловых превращений в разработке.
В процессе анализа первых частей Пятой и Восьмой симфоний справедливо говорится о введении в разработку образов, олицетворяющих силы зла и разрушения, направленных против человеческой личности и человечности вообще. Но при этом автор не фиксирует внимание читателя на том, что Шостакович строит подобные образы на основе тех тем, которые в экспозиции символизировали субъективно-человеческое начало. Тематическая трансформация превращает самое человеческое в нечто чуждое природе человека — в слепую силу, подавляющую личность. Это не рок и не судьба (как у Чайковского), но категория не менее вечная — это зло, творимое человеческими руками, сила конкретная, «персонифицированная». Отсюда сознание возможности и необходимости борьбы, в процессе которой в конечном итоге и происходит становление сознания личности. К сожалению, все эти (и некоторые другие) важные обстоятельства симфонической драматургии Шостаковича не получили у Орлова должного освещения.
Еще один момент обращает ка себя внимание. В книге, посвященной последовательному обзору симфоний Шостаковича, дается не совсем приемлемая сегодня точка зрения на роль в творчестве композитора Четвертой симфонии. Это тем более обидно, что Орлов так последовательно и умно выступает против многочисленных скороспелых суждений по поводу музыки Шостаковича, восстанавливая «доброе имя» многих симфоний. Единственным извиняющим автора обстоятельством является то, что последний в пору написания книги не имел возможности изучить партитуру Четвертой симфонии (партитура опубликована в 1962 году). В главе «Кризис», где идет речь о Четвертой симфонии, ничего не говорится об опере «Леди Макбет Мценского уезда», которая предшествовала симфонии и без упоминания которой невозможно уяснить процесс становления зрелого стиля Шостаковича. И это — несмотря на обещание автора (во вступлении) не игнорировать вопросы междужанровых связей. Итак, книга не без изъянов. Но указанные недостатки все же не перевешивают ее достоинств. Книга в целом интересная и полезная. Ее появление было важным этапом развития музыковедческой «шостаковичианы». Она во многом проложила путь другому исследованию симфонического творчества Шостаковича — книге М. Сабининой «Симфонизм Шостаковича»1.
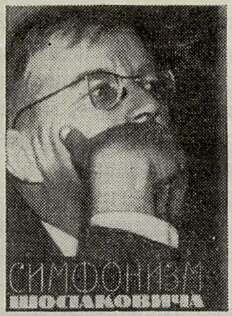
Многое из того, что недосказал и недооценил в своей книге Орлов, получает должное освещение, в исследовании Сабининой. Книга «Симфонизм Шостаковича» имеет подзаголовок «Путь к зрелости». Он объясняет отбор материала (Сабинина ограничивается периодом до Шестой симфонии включительно) и композицию книги, внешне очень сходную с построением книги Орлова. Сабинина, как и Орлов, идет от произведения к произведению в хронологическом порядке. Однако основной задачей автора является выяснение процесса становления симфонического стиля Шостаковича. Поэтому все анализы здесь в большей мере направлены на обобщение и основной смысловой акцент книги переносится к прослеживание «многоканальных» стилистически связей между рассматриваемыми произведениями.
Книга задумана как первая часть двухтомника о симфоническом творчестве Шостаковича. Автор обосновывает свое обращение к раннему симфонизму Шостаковича его неизученностью. Действительнс такие произведения, как Вторая, Третья, Четвертая симфонии, в лице Сабининой получают первого серьезного исследователя. Вместе с тем уже во введении автор выдвигает интересную и, на наш взляд верную мысль о том, что Четвертая, Пятая и Шестая симфонии образуют своего рода «симфоничестий триптих». Этим обосновывается необходимость включения в книгу анализа двух зрелых произведений, наглядно показывающих, во что отлились стилистические поиски раннего Шостаковича.
В книге шесть глав, небольшое вступление и заключение. Каждая из глав снабжена широким подзаголовком, «упреждающим» основные выводы и хорошо ориентирующим читателя. Книга написана
_________
1 М. Д. Сабинина. Симфонизм Шостаковича (путь к зрелости). М., «Наука», 1965, 174 стр, тираж 2 000экз.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Мыслить гражданственно — в творчестве и теории! 5
- Направленность таланта 15
- «Так шагай с нами рядом...» 21
- Поздравления из-за рубежа 28
- Новый струнный квартет 29
- Вопросы психобиологии музыки 39
- В помощь ладовому анализу 45
- Александр Бенуа и музыка 49
- Письма И. Стравинского Н. Рериху 61
- Письма М. Равеля И. Стравинскому 68
- На спектаклях кировцев 71
- Болгарская опера на бакинской сцене 75
- Прокофьев в Новосибирске 79
- Игорь Смирнов ставит балет 85
- По следам письма артистов Большого театра 90
- И мастерство и вдохновенье... 93
- Новое содружество артистов 95
- Искусство фуги 96
- На концерте Юрия Гуляева 97
- «Шампа — цветок Лаоса» 98
- Ефрем Курц и Элен Шаффер 100
- [...Третий Международный конкурс им. Чайковского] 101
- Камерный концерт Александра Бротта 103
- Из дневника концертной жизни 104
- Внимание индивидуальности 107
- Интерпретация «Утеса» Шебалина 110
- Еще о подготовке хормейстеров 113
- Брестские впечатления 115
- Искусство масс 120
- Когда молодежи интересно... 125
- В лесном краю 133
- Посвящено творчеству Шостаковича 138
- Благородная миссия 145
- Стоит ли спорить? 147
- От редакции 150
- Коротко о книгах 151
- Новые грамзаписи 152
- Хроника 153



