фонии (он представляется более интересным, чем тот, который предпринят в книге Сабининой). Вообще в этой главе немало тонких и верных наблюдений над музыкой Шостаковича. Интересно анализируется опера «Катерина Измайлова» (кстати, ее оценка прямо противоположна той, которая дается Данилевичем в книге «Д. Шостакович»1), обращает на себя внимание также искусный анализ интонационных связей между частями цикла Пятой симфонии (стр. 152–154). Основной недостаток главы — в некоторой неполноте обобщений и расплывчатости формулировок.
Из отдельных недостатков главы обращает на себя внимание недооценка — следствие, по-видимому, недопонимания — двух произведений Шостаковича — Третьего и Пятого квартетов.
Возражение вызывает трактовка автором Восьмой симфонии. На стр. 177 Данилевич пишет: «Пасторальные образы финала не воспринимаются как завершение трагедийной концепции симфонии. Ведь в реальной действительности зло не исчезло само собой, как исчезает кошмарное сновидение. Враг был повержен нашей армией, нашим народом. Между тем в Восьмой симфонии враждебное людям начало скорее отстранено, нежели преодолено». Создается впечатление, что автор не услышал основного в этом произведении — борьбы. Спрашивается, о чем же говорят гигантские динамические волны разработки первой части? О чем же говорит перелом при переходе к репризе первой части, где провозглашение темы вступления воспринимается как обобщенный образ героического усилия, великой жертвы, после чего монолог рожка продолжает «жизнь» темы, подобно тому, как мы продолжаем в мыслях и воспоминаниях жизнь павших героев? То же впечатление преодоления, гигантского усилия возникает при переходе к пассакалии, после чего финал воспринимается как своего рода «et lux perpelua». Тут невольно отдаешь предпочтение глубоким и верным суждениям Л. Мазеля и Г. Орлова о решении проблемы цикла и финала в Восьмой симфонии.
Из остальных глав книги выделяется пятая («Мастер тембровой драматургии») и «Заключение», где особенно интересны наблюдения над преломлением в творчестве Шостаковича традиций Мусоргского. В главе «Новатор» поставленная проблематика, к сожалению, недостаточно разработана (надо признать, что это вообще недостаток книги), отчего резко снижается ее научная ценность.
В целом монография Данилевича — книга полезная и нужная. Думается, что она может быть с успехом использована при прохождении курса советской музыки на музыковедческих отделениях музыкальных училищ.
Подводя итоги сказанному, можно констатировать, что за истекшие пять лет музыковедческая «шостаковичиана» сделала большой шаг вперед. Взят хороший разгон. Надо думать, что он сохранится и в дальнейшем.
Й. Плавец
Благородная миссия
Книга И. Мартынова «Бедржих Сметана» — в лучшем смысле этого слова популярное издание.
Мартынов не впервые обращается к творчеству Сметаны. Еще в 1950 году вышла в свет его небольшая популярная брошюра, которая затем переиздавалась.
Новая книга превосходит предыдущую не только размерами, но и большей широтой в освещении данной темы. В ее одиннадцати главах в хронологическом порядке на биографическом фоне характеризуются основные произведения Сметаны, сообщаются различные примечательные даты жизни композитора. Книга снабжена хронологическим перечнем произведений Сметаны по жанрам, указателем литературы о нем на чешском и русском языках. Большим достоинством книги Мартынова является то, что она опирается на достоверные чешские материалы, в особенности из музея Сметаны в Праге, и на основные труды чешских музыковедов О. Гостинского, 3. Неедлы, Вл. Гельферта, О. Зиха и более молодых: М. Очадлика, Я. Рацека, П. Пражака, Ф. Бартоша и других. Автор убеждает в том, что ему близка вся чешская культура и история (это вообще свойственно советским музыковедам). Он рассматривает искусство Сметаны во взаимосвязи с творчеством Й. Тыла, К. Эрбена, Б. Немцовой, А. Неруды, А. Йирасека и других чешских писателей и поэтов XIX века, проводит аналогию с изобразительным искусством (Й. Манес, М. Алеш) и исторической наукой (Ф. Палацкий, Й. Юнгман, Й. Добровский, П. Шафарик). Поэтому можно утверждать, что картина чешской культурной жизни XIX века дана в книге органично и точно.
Хорошо показаны читателю значение гуситской революции для чешского народа, демократические
_________
1 В книге «Наш современник» Данилевич лишь вскользь указывает на свою, в прошлом глубоко ошибочную критическую оценку оперы «Катерина Измайлова» (см. стр. 126).
1 И. Мартынов. Бедржих Сметана. М., Музгиз, 1963, 496 стр., тираж 10 000 экз.
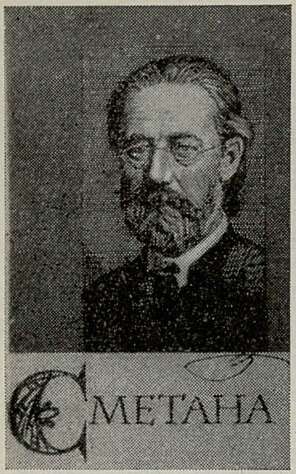
тенденции чешского Национального Возрождения, выдающаяся роль искусства Сметаны в завоевании политической свободы и независимости. В книге немало свежих мыслей и метких наблюдений. Хорошо подчеркнута связь Сметаны с народным движением в период Национального Возрождения, убедительно выявлена его связь с общим развитием мировой музыки XIX столетия. Мартынов лучше, чем чешские специалисты, ощущает общность между произведениями Сметаны и Йирасека, когда, например, объединяет не только «Вышеград» и «Либуше», но и «Далибора» со «Старинными чешскими сказаниями». В «Двух вдовах» он усматривает не только связь с французской литературой, но и с Моцартом и называет эту оперу «наиболее моцартианской из всех опер Сметаны» (стр. 239). При этом Мартынов отмечает, что Сметана всегда умел оставаться самим собой. Очень правильно автор подчеркивает оптимизм искусства Сметаны, его национальные устремления, высокое понимание им функции народного искусства. Его музыка по-человечески проста, искренна и сердечна. Одновременно автор тонко подчеркивает большую целомудренность музыки Сметаны, например, в опере «Поцелуй», которую сравнивает с бессмертной «Бабушкой» Вожены Немцовой.
Такое понимание личности и искусства Сметаны, его исторической роли в целом соответствует взгляду на его творчество, сложившемуся на его родине.
Все же некоторые положения книги вызывают несогласие. Например, «Торжественную увертюру» ре мажор Сметаны автор оценивает как малооригинальную (стр. 40). Между тем она является одним из ключевых произведений, которые помогают раскрытию творчества Сметаны. Не верно также утверждение, что в «Далиборе» и «Либуше» есть сцены по существу ораториального склада (стр. 171, 202). Наоборот, именно в этих произведениях наивысшей точки достигает драматизм Сметаны. Сам Мартынов на стр. 175 правильно отмечает, что в «сцене в тюрьме благодаря силе музыки мы вообще не ощущаем статичности действия». У Сметаны драматичность внутренняя, коренящаяся, например, в гармонии, модуляции, инструментовке и т. д. И явным обеднением выглядит цитата мотива из «Далибора», приводимая на стр. 171 без гармонии. Нельзя также утверждать, что «в творческом наследии Сметаны, более того, во всем наследии чешской классической оперы "Поцелуй" остался единственной в своем роде оперой-песней» (стр. 337). Кроме самого Сметаны, который в своей последующей опере «Тайна» исходил из принципов этой оперы, во многом отталкивается от «Поцелуя» И. Фёрстер, особенно в своей первой опере «Дебора».
В книге говорится, будто бы в квартете «Из моей жизни», «если не считать юношеских опытов, композитор впервые обратился к труднейшему камерно-инструментальному жанру» (стр. 307). Но ведь известно, что еще перед своим отъездом в Швецию, то есть до 1856 года, когда Сметана был уже далеко не юношей, он написал Фортепианное трио соль минор.
К сожалению, в книгу вкрались некоторые неточности и ошибки чисто фактического порядка, мимо которых я не имею права пройти.
На страницах 195–196 автор ошибочно сообщает, что образ легендарной княжны Либуше «встречается и в разнообразных художественных произведениях (в том числе — опере Шкроупа "Брак Либуше"). О ней рассказывается и в знаменитых Зеленогорской и Краледворской летописях, опубликованных в начале прошлого столетия Вацлавом Ганкой». В действительности о Либуше в Краледворских летописях не говорится.
Не следует цитату из гуситского хорала, использованного в «Либуше», давать по Йистебницкону канционалу, который во время создания Сметаной этой оперы не был еще известен. Эту мелодию Сметана заимствовал от Чешских братьев. Она по традиции передавалась из поколения в поколение вплоть до эпохи Национального Возрождения. Других мелодий, кроме «Кто ж вы, божьи воины», Сметана не цитирует. Между тем Мартынов указывает на использование и другой гуситской песни! (стр. 207, 208).
В книге имеются ошибки в датах:
В 1879 году Сметана не работал над оперой «Тайна», как утверждает Мартынов на странице 370, ибо премьера этой оперы состоялась уже в сентябре 1878 года, о чем сообщается в другом месте книги (стр. 346).
В сноске на странице 213 ошибочно дан год смерти композитора Фёрстера — 1949 вместо 1951 года.
Мною замечено немало ошибок в географических сведениях. Мартынов, например, уверен, что «действие оперы Сметаны ("Поцелуй". — Я. П.) развертывается в деревушке, затерявшейся в густых лесах, украшающих Крконошские горы (северо-западная Чехия)» (стр. 326–327), и настойчиво подтверждает это еще раз на стр. 339. На самом же деле горная цепь Крконоше расположена на северо-востоке Чехии.
Чешский тенор-буффо ошибочно назван Йозефом Мошной под рисунком на стр. 146, в то время как на самом деле его зовут Йиндржих.
По какому-то недоразумению на стр. 382 утверждается, что первый вариант «Чешских песен» Сметаны не сохранился.
Ошибки встречаются и в нотных примерах, но не будем на них останавливаться.
Перечень неточностей легко можно было бы продлить. Но одно ясно, что они никак не могут снизить общее значение книги. Бесспорно, ее тенденции приблизить Сметану к советскому читателю очень отрадна, и книга выполняет свою благородную миссию. Мы должны быть признательны автору за правильное понимание существа и значения сметановской индивидуальности. Своей книгой он доказал, что является одним из немногих зарубежных историков, который действительно понимает Сметану и его мировое значение. За это в Чехословак уважают труды Мартынова и считают его другом и пропагандистом нашей музыки.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Мыслить гражданственно — в творчестве и теории! 5
- Направленность таланта 15
- «Так шагай с нами рядом...» 21
- Поздравления из-за рубежа 28
- Новый струнный квартет 29
- Вопросы психобиологии музыки 39
- В помощь ладовому анализу 45
- Александр Бенуа и музыка 49
- Письма И. Стравинского Н. Рериху 61
- Письма М. Равеля И. Стравинскому 68
- На спектаклях кировцев 71
- Болгарская опера на бакинской сцене 75
- Прокофьев в Новосибирске 79
- Игорь Смирнов ставит балет 85
- По следам письма артистов Большого театра 90
- И мастерство и вдохновенье... 93
- Новое содружество артистов 95
- Искусство фуги 96
- На концерте Юрия Гуляева 97
- «Шампа — цветок Лаоса» 98
- Ефрем Курц и Элен Шаффер 100
- [...Третий Международный конкурс им. Чайковского] 101
- Камерный концерт Александра Бротта 103
- Из дневника концертной жизни 104
- Внимание индивидуальности 107
- Интерпретация «Утеса» Шебалина 110
- Еще о подготовке хормейстеров 113
- Брестские впечатления 115
- Искусство масс 120
- Когда молодежи интересно... 125
- В лесном краю 133
- Посвящено творчеству Шостаковича 138
- Благородная миссия 145
- Стоит ли спорить? 147
- От редакции 150
- Коротко о книгах 151
- Новые грамзаписи 152
- Хроника 153



