На протяжении ряда лет Генрих Густавович приезжал в консерваторию, помогал ей набирать силы.
Нейгауз любил играть в Свердловске. Концерты его — неповторимые события художественной жизни. В последний свой приезд зимой 1961 года он уже не мог выступать из-за болезни руки, даже в классе играл, превозмогая боль. Поездка не раз откладывалась: сказывалось недомогание, давал знать о себе и возраст — Нейгаузу шел семьдесят четвертый год. Едва поправившись после операции, он собрался в путь. «Я обещал, меня там очень ждут», — отвечал он родным, отговаривавшим его от нелегкой зимней поездки. Автору этих строк уральцы поручили прибыть из Москвы «непременно с Нейгаузом».
На Казанский вокзал мы приехали прямо из зала им. Чайковского под сильнейшим впечатлением концерта С. Рихтера, впервые выступившего после возвращения из первого американского турне (до сих пор звучит в ушах Шестая соната С. Прокофьева). И вот Свердловск, морозный, вьюжный, стремившийся согреть дорогого гостя теплом сердец. Вместительный зал музыкального училища, где проходили открытые уроки и беседы Генриха Густавовича, был постоянно переполнен. «Пересказать» встречи Нейгауза с музыкантами, молодежью невозможно — их надо было слышать. Генрих Густавович помогал слушателям заглянуть в «тайное тайных искусства», пробудить в себе художников. И все это было овеяно особым ароматом, который не поддается фиксации никакими стенограммами; в некоторой степени о нем дает представление лишь книга Нейгауза.
Все в этот приезд Генриха Густавовича было по-особому праздничным. По счастливому стечению обстоятельств именно тогда в филармонии выступал Станислав Нейгауз. Пианист был в отличной форме, играл на редкость удачно. Шопеновский вечер в свердловском филармоническом зале был одним из лучших концертов, которые мне доводилось слушать у С. Нейгауза. Генрих Густавович не скрывал своей музыкантской и отцовской радости.
Перед отъездом на аэродром Генрих Густавович захотел послушать симфоническую репетицию к вечернему концерту: он не слышал еще у Станислава Четвертый концерт Рахманинова. Времени оставалось в обрез, и мы едва не опоздали к самолету. Генрих Густавович со свойственным ему юмором не раз вспоминал, как его и Дмитрия Башкирова, также возвращавшегося в Москву, с трудом пустили в самолет, закончивший посадку пассажиров, с оговоркой: «без питания»... Прощаясь, Генрих Густавович обещал снова приехать в Свердловск, добавив часто повторяемое им в последние годы, «если буду жив». Все же чувствовалось, что этот приезд может стать последним. Видимо, думалось об этом и Генриху Густавовичу. Накануне отъезда он писал в «Вечернем Свердловске»: «Более красивой осени, чем на Урале, я не знаю», восхищался красотой уральской природы, будто прощаясь с ней...
*
Особенно тянулась к Нейгаузу молодежь. Не счесть, сколько молодых умов приобщил он к подлинному искусству, сколько ошибочных представлений и заблуждений искоренил. И не только для пианистов класс Нейгауза был музыкальной академией. И для теоретиков, дирижеров, оркестрантов... Генрих Густавович много играл, в его неподражаемом исполнении нам посчастливилось слышать квартеты Бетховена и «Тристана», симфонии Брамса и Шостаковича, почти всего Скрябина, Дебюсси. Нейгауз был до краев наполнен музыкой. Как-то в Свердловске группа студентов встретила его идущим по улице. Генрих Густавович был нездоров, выглядел усталым. На вопрос: «Какие лекарства Вам принести?» — он сказал: «Не беспокойтесь, я сейчас дома поиграю Баха, и мне станет легче».
Нейгауз «заражал» учеников не только музыкой. Он открывал нам поэзию Гёте и Мицкевича, Блока и Пастернака; от него мы впервые узнали «Доктора Фаустуса» Т. Манна и статью Маяковского «Как делать стихи»...
Порой казалось, что, приводя излюбленные примеры, Генрих Густавович «повторяется». Нетерпение молодости было понятно: хотелось слышать все новые блестки нейгаузовского дара. Нам было невдомек тогда, что в этих повторах проявлялась мудрость учителя: формулы и метафоры Нейгауза как-то сами собой складывались в удивительно стройную пианистическую «таблицу умножения». За поразительными импровизациями Генриха Густавовича мы не сразу могли разглядеть законы искусства, которые он открывал ученикам. И только впоследствии, начав преподавать, многие из них сумели понять и оценить безграничное терпение учителя, не устававшего повторять истины, без которых нельзя достойно прожить в искусстве.
Нейгауз часто возвращался к словам Блока: «Для того чтобы создавать произведение искусства, — надо уметь это делать». И он учил этому умению.
Когда я пришел на первый урок и бойко, громко сыграл первую часть ми-минорного Концерта Шопена, Генрих Густавович в течение трех часов (!) занимался со мной одной главной партией концерта. Точнее, на основе одной главной партии он начинал приобщать ученика, не имевшего представления о ряде законов искусства, к их познанию. Но и этим Генрих Густавович не ограничился: после урока он пригласил меня к себе в комнату
(в небольшой класс Свердловской консерватории) и предложил заниматься самостоятельно. А это было нелегко: рядом за столом сидел Генрих Густавович и писал письма своим корреспондентам. Через неделю все снова повторилось — только на сей раз несколько часов урока было посвящено побочной партии того же концерта.
Так шаг за шагом ученики начинали понимать, что в музыке есть «уже не звук» и «еще не звук», что в искусстве нет ничего «вообще», что задача начинающего музыканта — постигать природу законов искусства. Верхоглядство и фальшь, обывательщина и серость были для него мучительны.
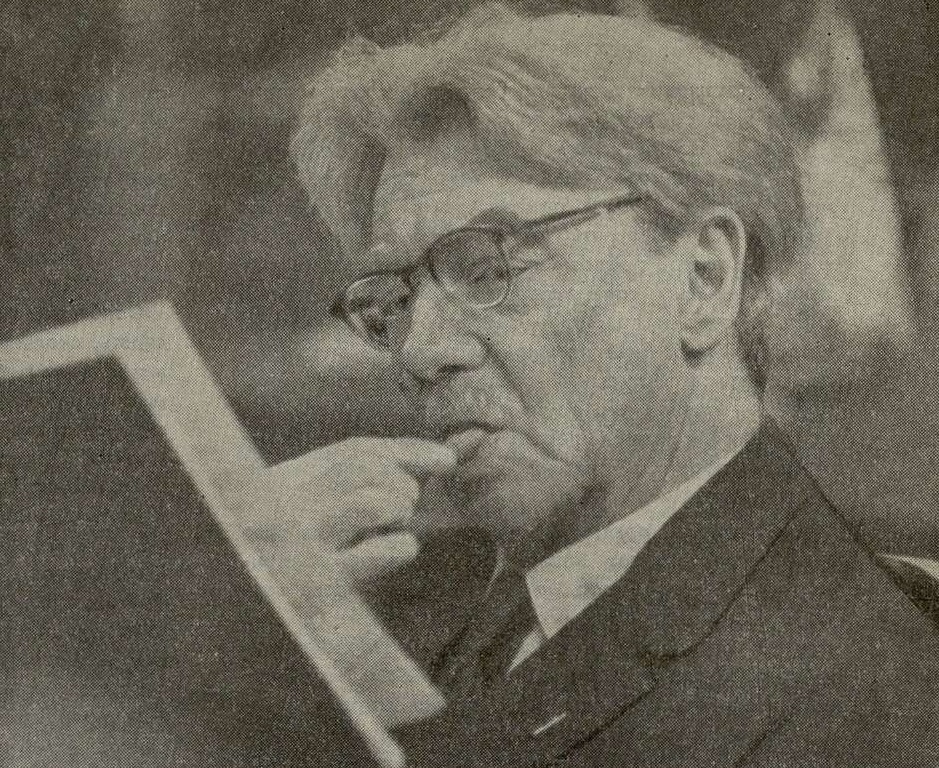
Невольно, думая о нашей педагогической работе, особенно в условиях так называемой «периферии», видишь, как недостает внимания (не пиетета, а истинного внимания!) к тому, что завещано Нейгаузом и другими корифеями советской пианистической культуры. Сыграть перед Нейгаузом «вообще», не отвечая за каждый звук и каждую ремарку, было пропросту невозможно. А ведь многие из нас свыклись с приблизительностью прочтения текста студентами, с школярством и натаскиванием. А разве в достаточной мере мы прививаем своим воспитанникам широкий взгляд на искусство, на смежные с музыкой виды искусства? (Вспоминается, с каким терпением, без навязчивости Генрих Густавович пояснял нам, почему скромная «Кропоткинская», лишенная бронзы многопудья, была его любимой станцией московского метро!)
∗
Счастье учиться у Нейгауза не было безмятежно легким. Это было счастье трудных дорог. Художественные принципы Нейгауза не позволяли ему быть снисходительным в искусстве. Нет Бетховена для музыкальной школы или «училищного» Шопена. Нет «Аппассионаты» для первого или четвертого курсов. Есть Бетховен, и есть Шопен... Не прикасайтесь к ним, если не готовы к постижению этой музыки!
Нейгауз органически не выносил ничего внешнего, «показного». Он требовал от учеников предельной честности и в жизни; и в жизни, и в искусстве — только правды! Пожалуй, никогда я не видел Генриха Густавовича столь разъяренным, как после слушания в Свердловске выступления одной очень слабой пианистки, пытавшейся «осилить» Первый концерт Чайковского.
Выступая в Москве, ученики тайно надеялись и одновременно откровенно боялись, что Генрих Густавович придет в концерт, а игрой своих учеников Нейгауз интересовался постоянно. Ему была чужда неискренность нередких еще — увы! — в нашей среде «дежурных» поздравлений в артистической. Он считал своим долгом говорить правду в глаза. И говорилось это всегда мягко, дружелюбно, остроумно. Правда, не всем нравились его каламбуры, острые словечки, но ведь и Нейгаузу далеко не все было по душе в нашей художественной практике. Молодежь между собой всегда называла его ласково — Генрихом. В этом слышалось и беспредельное уважение к близкому по духу человеку, и что-то очень теплое, по-нейгаузовски общительное: «Генрих сказал», «Генрих на уроке злился», «Генриху понравилось»... Слышалось в этом и признание доступности, простоты этого большого человека. Хочется повторить слова Нейгауза: «Большой человек — это как бы высшая форма простого, обыкновенного человека, наиболее полное его выражение».
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 8
- «Тост» 9
- Новые образы, новые средства 19
- В ответе перед народом 23
- Оперный дебют Эйно Тамберга 26
- Пытливый художник 32
- В Союзе композиторов СССР 35
- Тип изложения и структура 39
- Письма к родным в Болгарию 44
- Дмитрий Гачев 55
- Путешествие в Италию 58
- Из автобиографии 67
- Наука помогает педагогике 79
- Возможна ли "объективная интерпретация"? 84
- О моем учителе 89
- Наследник музыкантов-просветителей 94
- Воздействие огромного таланта 97
- Письмо Л. Годовского к Г. Нейгаузу 98
- Голосов янтарное сияние 100
- Там, где работают энтузиасты… 102
- «Варшавская осень» 1965 года 105
- Композитор-борец 115
- На Зальцбургском фестивале 118
- На музыкальной орбите 130
- Скрябин о себе 137
- Творческий итог 141
- Коротко о книгах 143
- Пять романсов 145
- Хроника 155



