БИБЛИОГРАФИЯ
В. ВАСИНА-ГРОССМАН
И. КУНИН
А. ФАРБШТЕЙН
КОРОТКО О КНИГАХ
НОТОГРАФИЯ
В. Васина-Гроссман
Надежный фундамент
Нет нужды особенно активно доказывать ценность наследия Б. Асафьева. Это уже доказала жизнь: его теоретические положения с каждым годом все прочнее входят в музыковедческую практику. Пожалуй, трудно назвать книгу по музыкальному искусству, где в той или иной мере не использовались бы труды Асафьева; мы опираемся на них и в популярных брошюрах и в теоретических исследованиях. И все чаще от освоения положений, выдвинутых ученым, музыковеды переходят к дальнейшему их развитию.
В частности, этим была отмечена научная сессия в ознаменование 80-летия со дня рождения Асафьева, прошедшая весной этого года в Ленинграде. В основных докладах получили критическое освещение и развитие идеи Асафьева, наиболее актуальные для современного этапа развития музыкознания, — теория интонации и ее отдельные положения (об интонационном словаре, о кризисах интонаций и др.). Идеи Асафьева развиваются и в трудах зарубежных ученых, особенно Чехословакии (Я. Йиранека, А. Сихры, В. Кучеры). Вышедший недавно под редакцией Б. Ярустовского сборник статей музыковедов Советского Союза и других социалистических стран1 — еще одно подтверждение актуальности концепции Асафьева.
Научное наследие Асафьева, как известно, огромно, сложно, противоречиво. Оно не только выдвигает ряд проблем, но и само по себе является научной проблемой. Творческая эволюция талантливого ученого, его связи со всем идейным движением своего времени — искусством, наукой, общественной мыслью, его преемственность от классического музыкознания и перспективность для будущего нашей науки — все это требует серьезной научной разработки. Начало здесь было положено очень глубокими и содержательными статьями Дм. Кабалевского2, статьей
_________
Е. Орлова. Б. В. Асафьев. Путь исследователя и публициста. Л., «Музыка», 1964, 461 стр., тираж 1700 экз.
1 Интонация и музыкальный образ. М., «Музыка». 1965.
2 Дм. Кабалевский. Б. В. Асафьев — Игорь Глебов (вступительная статья), см.: Академик Асафьев. Избранные труды, т. I, М., изд. АН СССР. 1952, стр. 3–38.
Дм. Кабалевский. Советская музыка в работах Асафьева (вступительная статья), см.: Академик Асафьев. Избранные труды, т. V, М., изд. АН СССР, 1957, стр. 5–19.
Л. Мазеля1, кандидатской диссертацией В. Корниенко2. Рецензируемая книга Е. Орловой — первая монография, в которой прослеживаются — «на основе изданных трудов и доступных в настоящее время рукописных материалов основные этапы развития Асафьева как исследователя и публициста» и намечаются «ведущие тенденции и проблематика его литературных трудов различных периодов». Как утверждает автор, «в связи с таким ракурсом исследования потребовалось уделить большое внимание собиранию и систематизации различных мало или вовсе не известных работ, которые включены частично в содержание отдельных глав, частично в приложения» (стр. 4).
«Собирание и систематизация» — не парадоксально ли это звучит применительно не к Одоевскому или Улыбышеву, а к ученому наших дней? Но в том-то и дело, что наследие Асафьева, за исключением работ, вошедших в упоминавшийся нами пятитомник «Избранных трудов», почти неизвестно читателям. А это издание охватывает лишь сравнительно небольшую часть наследия ученого. Сюда не вошли даже такие основные работы, как «Симфонические этюды» и «Русская музыка от начала XIX столетия». Тут уж сказалась, ложная традиция рубежа 40–50-х годов — «приглаживать» собрания сочинений. За это, разумеется, ответственна и редколлегия издания, в том числе автор этих строк... Так или иначе, а музыковед (в особенности молодого поколения), если он не располагает возможностью пользоваться крупнейшими библиотеками, «полного» Асафьева не знает. А без этого нельзя по-настоящему его понять.
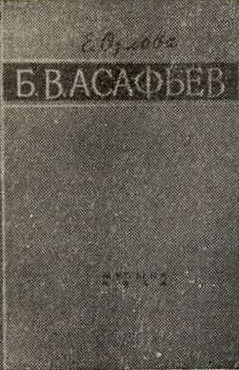
Деятельность Асафьева — это непрерывные поиски, пробы, смелые опыты решения самых трудных, самых коренных проблем искусства, постепенное оттачивание и шлифовка основных теоретических положений. В процессе этой шлифовки возникали сверкающие «осколки» — поразительные по меткости наблюдения, зачастую притаившиеся в подстрочных примечаниях. Тот, кто внимательно читал работы Асафьева, знает, что некоторые примечания (например, в книге «Русская музыка») могли бы быть развиты в самостоятельные исследования.
Поставленная Орловой задача — собрать, изучить и систематизировать все наследие Асафьева — была продиктована самим характером исследуемого материала. А он, помимо всего прочего, требовал и изучения той музыкально-общественной и научной атмосферы, в которой возникал тот или иной труд.
Нельзя писать об Асафьеве двадцатых годов, минуя, например. Эйнштейнову теорию относительности, интуитивизм Бергсона и их резонанс в русской научной мысли. Кроме того, Орлова с подлинно научной добросовестностью широко привлекает и переписку Асафьева. И часто приводимые ею цитаты из писем Асафьева, в особенности к Н. Мясковскому и В. Держановскому, раскрывают внутренние импульсы обращения Асафьева к различным темам. Избранный автором книги путь был, бесспорно, наиболее сложный, и он оправдал себя.
Список трудов Асафьева — книг и статей — содержит более 900 названий. Орлова систематизировала этот огромный материал, сделала его обозримым для читателя монографии, расположив работы в хронологическом порядке и сгруппировав их по темам. Первая часть книги (гл. I — X) охватывает путь Асафьева до середины тридцатых годов, вторая (гл. XI — XIX) — от середины тридцатых годов до конца жизни. Но если материал второй части (кстати, гораздо более известный читателю) сравнительно легко поддается тематической группировке (статьи, объединенные в циклы самим Асафьевым, исследования о Глинке и Чайковском, работы о советской музыке, о музыке зарубежных стран и т. д.), то систематизация чрезвычайно разнообразных работ, относящихся к двадцатым и началу тридцатых годов, представляла немалые трудности. Нужно было выявить в каждом отдельном этапе его ведущую тему, проследить формирование основных музыкально-эстетических положений. По аналогии с известной книгой самого Асафьева, работе Орловой можно было бы дать подзаголовок «Научная концепция Асафьева как процесс». Следить за постепенным становлением излюбленных тем, обобщений, самого исследовательского метода, наконец, мировоззрения ученого — словом, всего того, что мы хорошо знаем по большим, результативным трудам Асафьева, интересно и поучительно. Орлова тщательно выявляет первые «ростки» больших трудов. Так, полузабытая статья в «Мелосе», носящая несколько претенциозное — в духе двадцатых годов — название «Соблазны и преодоления», оказывается своего рода первоначальным конспектом знаменитой книги «Русская музыка от начала XIX столетия» (стр. 52– 57). От листовок-пояснений к русским операм, через конспект- лекцию «Основы стиля русской оперы» тянутся нити к замыслу «Симфонических этюдов».
И наконец, прослеживая становление центральной для Асафьева теории интонации, Орлова тщательным образом сопоставляет относящиеся к различным годам определения понятий интонации — речевой и музыкальной, интервала, мелодии, музыкальной формы. Интереснейший свод этих определений опубликован в приложениях к книге (стр. 444–451).
Теория интонации Асафьева, естественно, находится в центре внимания автора книги. Освещение ее не ограничено главами, специально отведенными книгам «Музыкальная форма как процесс» и «Интонация» (гл. VII и XIX). но пронизывает всю монографию, так как проблему интонации Асафьев разрабатывал буквально во всех своих книгах и статьях.
О теории интонации много спорят, у нее есть и горячие сторонники, и критики, скептицизм которых базируется главным образом на том, что Асафьев не довел свою работу до состояния законченной теоретической системы. С нашей точки зрения, Орлова нашла правильный
_________
1 Л. Мазель. О музыкально-теоретической концепции Асафьева. «Советская музыка» № 3, 1957.
2 В. Корниенко. Формирование и эволюция эстетических взглядов Б. В. Асафьева. См.: сб. Научно-методические записки Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки», вып. 1, Новосибирск. 1938.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- От редакции 5
- Факты, возможности, цели 6
- Иллюзии и перспективы 11
- Стереофония. Ее будущее 18
- Юбиляра поздравляют 22
- Драгоценная простота 33
- Ночь 38
- Навстречу буре 43
- Из истории песни «Красное знамя» 53
- Музыка и сцена 62
- Саратовский оперный 73
- Им многое под силу 77
- «Новый балет Праги» 83
- Владимир Софроницкий 87
- О репертуаре молодых пианистов 95
- Итальянская песня на эстраде 98
- Король баритонов 103
- В концертных залах 107
- В повседневной работе 116
- От редакции 120
- Поговорим начистоту 122
- Что петь самодеятельности 125
- Несколько реплик 127
- Классик финской музыки 129
- Надежный фундамент 141
- Слабая работа 144
- Эстетические проблемы киномузыки 146
- Коротко о книгах 148
- Нотография 149
- Вышли из печати 150
- Хроника 151



