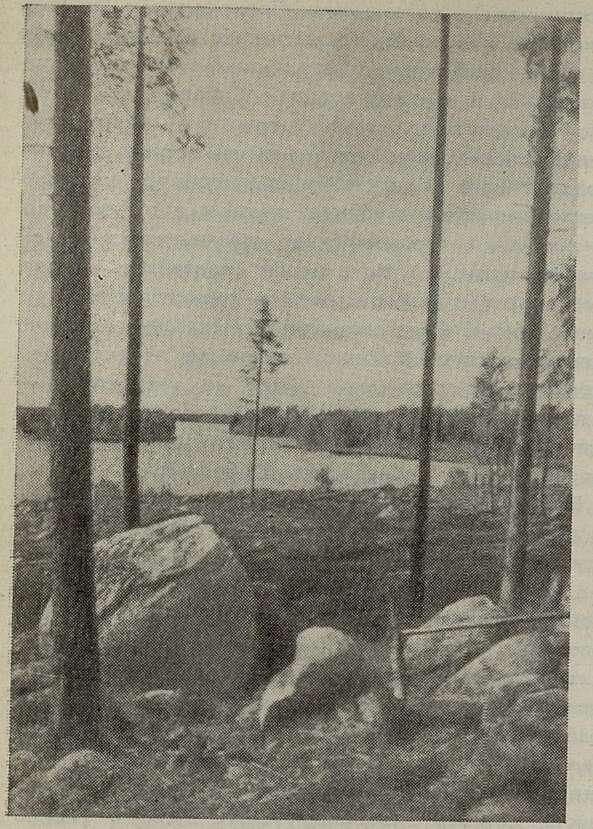
большая группа очень молодых инструменталистов, тщательно и с хорошим чувством стиля играющая сочинения «классиков XX столетия». Они исполняли «Рэг-тайм» Стравинского, «Три поэмы Стефана Малларме» Равеля, остроумную юношескую пьесу Хиндемита «Камерная музыка» № 1, несколько миниатюр Шёнберга, «Вопрос, оставшийся без ответа» Чарльза Айвза. Дирижировал приглашенный из Вены Фридрих Черга. Колючая ирония Стравинского, чарующая утонченность Равеля, грубоватый юмор Хиндемита были переданы очень точно, с подлинной юношеской увлеченностью. Из новой финской музыки в программу была включена инструментальная пьеса Эркки Сальменхаара под названием «Пьяный корабль» (по известному стихотворению Артура Рембо); молодой, весьма эрудированный автор обнаружил в ней богатую тембровую выдумку и близкое знакомство с новейшими «сонористическими» опытами западных мастеров; музыка его не свободна от налета манерности, а главное, излишней растянутости.
Одним из центральных событий «Ювяскюльского лета» был сонатный вечер талантливых московских музыкантов — скрипача Марка Лубоцкого в дуэте с пианистом Всеволодом Петрушанским. Судя по единодушным отзывам ряда столичных газет, искусство советского скрипача (он играл также с люцернским ансамблем) встретило самое горячее признание финской публики. Хельсинкская «Ууси Суоми» назвала первый концерт Лубоцкого «сенсацией дня», поставив его в один ряд с Коганом, Школьниковой, Игорем Ойстрахом, Вайманом — «верхушкой послевоенного поколения русских скрипачей». «Марк Лубоцкий — избранник среди виртуозов своего отечества, — писала газета “Хельсингин саномат”, — его владение смычком беспредельно законченно: безошибочная пальцевая техника, динамичность, удивительное многообразие тембров...»
Все критики с восторгом отозвались о впервые исполненной Скрипичной сонате москвича А. Шнитке. Для многих было приятной неожиданностью выдвижение нового советского композитора, обладающего «неповторимостью индивидуального профиля и ярко современным мышлением» (газета «Фольктиднинген»).
Читая подобные восторженные отзывы (а их было немало), я подумал: не слишком ли мы сами осторожны и скупы в оценке достижений молодого поколения советских композиторов? Не обедняем ли мы себя перед западным миром, ограничивая ассортимент нашего музыкального «экспорта» узким кругом одних и тех же давно признанных шедевров? Впрочем, мне могут сказать, что эти коварные вопросы не имеют прямого отношения к теме настоящих заметок...
*
Целью нашей поездки в Ювяскюлю (советскую делегацию здесь представляли эстонский композитор Лео Нормет и автор этих строк) было участие в международном музыковедческом конгрессе, посвященном памяти Яна Сибелиуса. Организаторы конгресса — видный финский музыковед Эрик Тавастшерна и председатель Союза композиторов Йоонас Кокконен — сделали все от них зависящее, чтобы превратить этот конгресс в интересное и содержательное собеседование музыкантов-ученых из разных стран Европы. Среди двадцати участников конгресса были представители Англии, Западной Германии, Австрии, Венгрии, Чехословакии, Швеции, Дании, Норвегии. Здесь можно было встретить таких солидных ученых, как немец Карл Вернер, англичанин Дональд Митчелл, венгр Йожеф Уйфалуши. Музыканты относительно умеренного направления соседствовали с убежденными сторонниками авангардистских систем.
Ежедневно с девяти утра зачитывались рефераты — короткие, не более двадцати — тридцати минут. Затем, после ланча, с трех до пяти проводи-
лась серьезная дискуссия: расположившись вокруг стола, участники конгресса обменивались короткими, трехминутными репликами — без протоколов, стенограмм, резолюций; здесь высказывались свежие мысли, откровенно сформулированные мнения по прослушанным рефератам.
Мне понравилось, что среди докладчиков с финской стороны было несколько композиторов (Кокконен, Салменхаара), которые продемонстрировали глубину теоретического мышления и хорошее владение техникой анализа. Председатель Союза Кокконен выступал даже дважды, затронув ряд специальных, музыковедческих проблем.
Сначала казалось несколько неожиданным, что на конгрессе памяти Сибелиуса сравнительно мало говорилось о самом творчестве великого финского симфониста. Только трое из иностранных гостей, включая нашего Лео Нормета, посвятили свои выступления проблемам, непосредственно связанным с Сибелиусом. Председательствовавший на заключительном заседании Тавастшерна тщетно призывал своих коллег вернуться к этой центральной проблеме конгресса. Большинство предпочитало обойти ее стороной. Видимо, искусство финского классика нынче не слишком привлекает интерес западных музыковедов. В атмосфере лихорадочной смены авангардистских школ и систем творчество замечательного симфониста выглядит как некий странный анахронизм, случайно доживший до середины XX столетия. Более того, кто-то из финских коллег с нескрываемой обидой утверждал, что в послевоенном западном музыкознании ведется своего рода «научная контратака» против Сибелиуса. Вспомнили вызывающе нигилистическую статью французского шёнбергианца Рене Лейбовица с характерным заглавием «Сибелиус — наихудший в мире композитор»1. И только европейская воспитанность заставляла некоторых зарубежных гостей вежливо маскировать перед гостеприимными хозяевами свое равнодушие к выдающемуся творчеству финского национального гения.
Можно предположить, что именно эта не слишком благоприятная ситуация, сложившаяся в западном музыкознании вокруг имени Сибелиуса, вынудила финских коллег объявить столь расширенную программу конгресса: рефераты посвящались не столько творчеству Сибелиуса, сколько его эпохе, точнее, всей европейской музыке начала XX века. Докладчики говорили о Малере и Р. Штраусе, анализировали малоизвестные сочинения Шёнберга и Бартока, затрагивали проблемы экспрессионизма, вспоминали о деятельности Прокофьева и Яначека, Скрябина и Кандинского, датчанина Карла Нильсена и норвежца Валена, то есть самых различных авторов, живших в одно время с Сибелиусом. В этих сообщениях было немало ценного и интересного, а в дискуссиях порой затрагивались острые вопросы современного искусствознания (например, вопрос о психологической сущности музыкального экспрессионизма и о его внутренней идейно-стилистической дифференциации). Но в целом создавалось впечатление чрезмерной пестроты и разноголосицы; уж очень трудно было соединить все сказанное в некий единый и цельный поток. Главное же, подавляющее большинство сообщений никак не увязывалось — даже в косвенном плане — с той основной проблематикой, ради которой был объявлен этот конгресс, проводимый в рамках «Года Сибелиуса».
Все сказанное, разумеется, не исключает того, что в ряде рефератов, в частности в развернутых выступлениях Тавастшерны, Кокконена, Нильса Рингбома, заключалось немало оригинальных мыслей по поводу наследия Яна Сибелиуса. Финские коллеги особенно подчеркивали новаторскую роль его поздних сочинений — Четвертой и Шестой симфоний, поэмы «Тапиола», находя в них своеобразные параллели с важнейшими течениями европейской музыки 1910-х годов. Тавастшерна говорил о выдающемся значении Сибелиуса как убежденного симфониста, который, подобно Густаву Малеру, упорно культивировал жанр монументальной симфонии-драмы, видя в ней возможность широкого воплощения современного мира во всем его жизненном многообразии.
Несомненным достоинством конгресса было стремление его участников вырваться за пределы чиста исторической проблематики и затронуть некоторые животрепещущие вопросы сегодняшней музыкальной жизни Запада. Пусть ответы на эти вопросы не отличались четкостью и ясностью, сам факт критической оценки кризисных явлений музыкальной со-
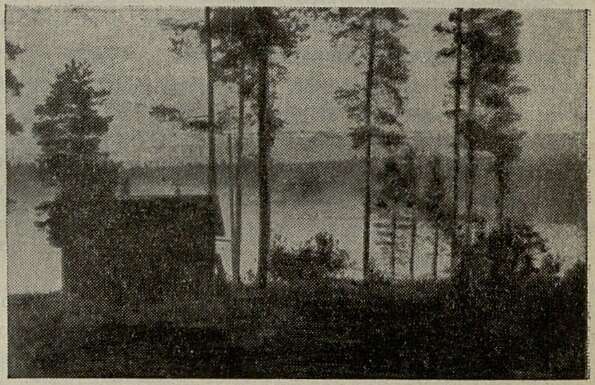
_________
1 См. об этом в статье Йоонаса Кокконена «Национальная и интернациональная роль Сибелиуса» в журнале «Look at Finland» № 1, 1965.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- 1. Молчанов К., Прокофьев А. Комиссары 5
- 2. Галиев А., Чулюкин Ю., Шароев И. Семь цветов музыки 8
- 3. Сокольская Ж. Революции посвященная 20
- 4. Сохор А. Две "Тетради" В. Гаврилина 25
- 5. Гиппиус Е., Ширяева П. Из истории песни "Красное знамя" 31
- 6. Десятник Е. Запевала революции на Украине 41
- 7. Зелов Н. Они помогали бороться 47
- 8. Громов Арк., Шапировский Эм. У истоков 48
- 9. Холопов Ю. Формообразующая роль современной гармонии 51
- 10. От редакции 60
- 11. Глиэр Р. Письма к М. Р. Ренквист 62
- 12. д'Энди Венсан. "Папаша Франк" 75
- 13. Лист, Дюка, Роллан о Франке 81
- 14. Пазовский А. Музыка и сцена 84
- 15. Лемешев С. Из автобиографии 91
- 16. Барсов Ю. Без сопровождения 103
- 17. Яковенко С. Советскую песню - в консерваторию 105
- 18. Шахназарова Н. Симпозиум в Берлине 108
- 19. Г. П. Продолжение следует 113
- 20. Буковин А. "Эй, хлеб, хлеб черный!" 119
- 21. Нестьев И. Ювяскюльское лето 122
- 22. Шнеерсон Г. Наш друг Алан Буш 126
- 23. Буш Алан. Уот Тайлер 132
- 24. Житомирский Д. Проблемы советской оперы 135
- 25. Ауэрбах Л. Рассматривая проблемы программности 140
- 26. Баренбойм Л. Теория артикуляции Браудо 143
- 27. Поляновский Г. Хоры М. Коваля. Песни и хоры Г. Плотниченко 146
- 28. Новые грамзаписи 148
- 29. К 50-летию Октября 149
- 30. Говорят руководители театров и филармоний 149
- 31. Три вопроса автору 153
- 32. Из фотоальбома музыканта 156
- 33. Поздравляем юбиляров 158
- 34. Зим И. Через тридцать лет 160
- 35. А. Б. Новости из Клина 161
- 36. Брагинский А. Выставка-смотр 162
- 37. Гейбак М. Друзья из Цесика 163
- 38. Воротников В. Юным пианистам 163
- 39. Масленникова М. Танцы Сибири 163



