наименьшего сопротивления. «Слава впередсмотрящему! Слава вперед идущему!» — эти лозунги приобретают особую остроту. Квадратность рушится. В 4-четвертной такт врывается трехдольность 3/2 — 3/4. Как будто взволнованный человек начинает говорить быстрее, и цезуры в его речи почти исчезают, периодичность дыхания становится неравномерной. В этом как раз и заключалось художественное намерение автора, и не только в этой песне: сделать «лозунги» сердечными, эмоциональными.
*
Александра Пахмутова написала много песен. Конечно, не все они равноценны. Но лучшие из них, как всякое настоящее искусство, принадлежат народу. На этом, собственно, можно и закончить наш очерк. Хочется добавить только об одном свойстве Пахмутовой — впечатлительности ее художественной натуры. Порой незначительной детали, не замеченной никем другим, оказывается достаточно для возникновения интересного замысла. Как-то в журнале «Огонек» был напечатан портрет человека с гвоздикой в петлице пиджака. Человек улыбался. Улыбался перед казнью. Это был греческий патриот — коммунист Никос Белоянис. И вскоре появилась чудесная «Баллада о белой гвоздике».
Поехала Пахмутова на линию электропередач Братск-Тулун и, конечно, не зря. Ребята-строители вскоре запели ее «ЛЭП — 500». Побывала на комсомольских стройках Сибири — в Ангарске, Иркутске, Усолье, — и тут же разлетелись по стране «Письмо на Усть-Илим», «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Девчонки танцуют на палубе». Инженеру Марчуку особенно повезло. О нем написана «Марчук играет на гитаре».
Люди из разных уголков страны не просто благодарят композитора за песни. Водолазы просят написать о них. Строители-монтажники не отстают от водолазов! Цветоводы тоже робко просят: напишите...
Ну, что ж! Пахмутова — в расцвете таланта. Творческий путь ее и далек, и долог. И, верится, многое успеет талантливый человек на этом пути.
В. Зак
Фото М. Пазия
*
В. Рындин — театральный художник
Известно, что художник в музыкальном театре является активным интерпретатором замысла композитора. Музыка создает «предлагаемые обстоятельства», исходя из которых, так или иначе «действуют» художники. Причем сегодня «действуют» не так, как в недалеком прошлом. В чем разница? Вот об этом стоит начать разговор.
Облик декорационного искусства оперного театра тридцатых — сороковых годов определяло творчество таких выдающихся художников, как Ф. Федоровский, В. Дмитриев, П. Вильямс. Это очень непохожие друг на друга мастера. Но их объединяет единый творческий принцип — то, что все они работали так называемым живописно-объемным методом. Существо его раскрыл Ф. Федоровский. «Живописно-объемный метод, — писал он, — при помощи живописи стремится сложные архитектурные объемы, построенные в нескольких планах, ритмично связанные друг с другом, донести до зрителя как единое целое, создавая иллюзию реальности»1.
Полной «иллюзии реальности» стремился достичь сам Федоровский в могучих декорациях к «Борису Годунову» — будь то кремлевский ансамбль Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов, площадь у Василия Блаженного или золотая думная палата.
«Иллюзию реальности» несла в себе и каждая картина «Пиковой дамы» В. Дмитриева. Достаточно вспомнить хотя бы поразительную по своей «географической» точности и психологическому настроению «Набережную Невы». Выразительный образ ее воссоздавался художником из вполне реального, но драматически трактованного петербургского пейзажа.
«Иллюзию реальности» передовало тончайше-
_________
1 Ф. Федоровский. Моя работа над оперой «Борис Годунов». В кн. Е. Костима «Ф. Ф. Федоровский». М., 1960, стр. 236.
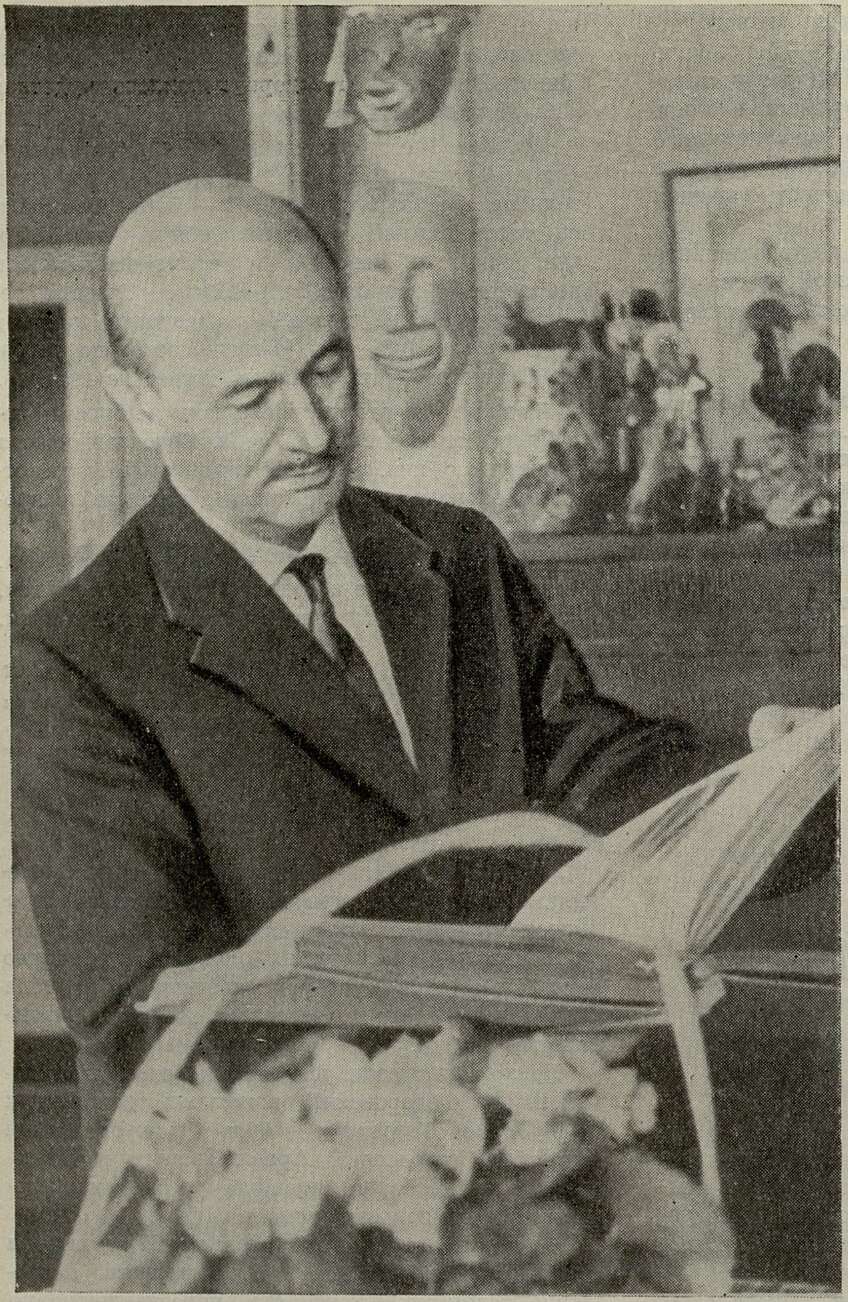
лирическое оформление П. Вильямса к «Евгению Онегину».
Одним словом, для творчества самых разных художников была характерна общая поэтика декорационного искусства. Она утвердилась как доминирующая начиная, примерно, с середины тридцатых годов. (Заметим, что аналогичные процессы происходили и в драматическом театре — там тоже в эти годы ведущей стала декорация повествовательная.) И с тех пор все лучшее, что было сделано художниками советской оперы вплоть до середины пятидесятых годов, основывалось именно на живописно-объемном методе. Начинало даже казаться, что он и в самом деле является единственно возможным, что, кроме создания «иллюзии реальности», нет и быть не может никаких иных путей раскрытия сценического облика реальной действительности.
В том, что живописно-объемный метод если и не единственный, то уж во всяком случае наилучший, уверовали даже такие художники, как И. Рабинович или тот же П. Вильямс, вначале работавшие по-иному.
Рабинович от «Лисистраты», «Карменситы и солдата» в Музыкальном театре Вл. И. Немировича-Данченко, от «Любви к трем апельсинам» С. Прокофьева в постановке А. Дикого на сцене Большого театра перешел к живописно-объемным, иллюзорно-повествовательным «Евгению Онегину» и «Гугенотам».
Вильямс, начавший с утверждения откровенно живописной декорации, основанной на плоскостных панно («Травиата» и «Чио-Чио-Сан» в Музыкальном театре Вл. И. Немировича-Данченко), в последующие годы переходит к поэтике иллюзорно-повествовательного оформления.
Таким образом, процесс был общим. Я не ставлю своей задачей анализировать, как именно этот процесс конкретно проявлялся и тем более отразился на развитии творчества того или иного мастера: хорошо или плохо то, что, скажем, Вильямс или Рабинович стали работать по-другому: было ли это обусловлено силой внешних обстоятельств или же внутренней необ-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Призыв матери 5
- Песни Александры Пахмутовой 8
- В. Рындин — театральный художник 13
- «Октябрь» в Большом 22
- Своей дорогой 26
- Живая русская традиция 33
- В стране Курпатии 36
- «Ночной поезд» 41
- Песни из цикла «Акварели»: «Клены», «Эй, дождик!» 46
- Пятая премьера 50
- В партитуре и на сцене 53
- Одесские очерки 60
- Говорит Бенджамин Бриттен 67
- Новые перспективы 68
- В восприятии наших современников 80
- Разговор о Равеле 84
- Совершенствовать вокальное мастерство 89
- Поет Долуханова 98
- Новое в программах 99
- Солирует контрабасист 100
- Александр Слободяник 101
- Молодежь из Тбилиси 102
- Трио «Бухарест» 102
- Письма из городов. Донецк 103
- Письма из городов. Кисловодск 104
- Телевидение: С карандашом у экрана 105
- По следам наших выступлений: Дети ждут! 107
- «Воццек» и музыкальный экспрессионизм 109
- Нестареющая музыка 119
- Фестиваль в Познани 123
- Быдгощ и Торунь, 1966 127
- Письмо в редакцию 129
- Большой театр в Милане 130
- Спустя два века 139
- Вдумчивый музыкант-педагог 141
- И скучно и грустно 144
- Коротко о книгах 146
- В смешном ладу 148
- Поздравляем женщин! 150
- Хранительницы песен 154
- Трагедия исчезнувшего села 155
- «Княжна Майя» 156
- На сцене — герои Маршака 156
- В союзах композиторов 157
- Поздравляем юбиляров 157
- Поздравляем юбиляров 158
- В Поволжье 159
- Второе рождение 159
- Новая роль. Неожиданный дебют 161
- «После третьего звонка» 161
- Бетховенский цикл в Казани 161
- Колхозная музыкальная 162
- Премьеры 163
- Памяти ушедших. П. Ф. Покромович 165



