кроется в недостаточной работе музыкальных руководителей. Во многих оперных коллективах, да, говорят, и в Большом театре, дирижеры, увы, очень часто не предъявляют к солистам должных требований, не ставят перед участниками постановки общей творческой задачи, не прорабатывают с исполнителем до тонкостей вокальный рисунок партии, а следовательно, не могут создать и подлинного музыкального ансамбля, для которого, как показали миланцы, вовсе уж не обязательно иметь какие-то сверхвыдающиеся голоса.
Труд певца складывается из ежедневного, обязательного тренажа голоса (с утра, а не после того, как человек уже утомлен организационными и бытовыми делами!) и кропотливой работы с концертмейстером над репертуаром (даже над старым). К сожалению, многие вокалисты игнорируют занятия, инструментом (фортепиано) не владеют, сами подготовкой репертуара не занимаются. Это приводит к плачевным результатам. Организация творческого процесса, дисциплина труда — вот, по-моему, вопросы очень важные для нашего вокального искусства.
*
Надо полностью восстановить авторитет музыкального руководителя оперного спектакля, чтобы люди не говорили, что они идут сегодня смотреть оперу. Надо снова приучить аудиторию слушать оперу, чтобы получать эстетическое удовольствие от музыки и вокального мастерства.
Утвердить авторитет какого-либо работника в приказном порядке невозможно. Поднять авторитет дирижера может только сам дирижер. И не криком, не стучаньем кулаком по столу, а повседневной, заинтересованной и кропотливой работой со всем составом исполнителей и с каждым певцом в отдельности. Эти традиции нам не занимать, их надо просто возродить.
*
В связи с этим вновь напрашивается вопрос о подготовке оперных дирижеров. Практика сегодняшнего дня показывает, что оперные театры испытывают острую нужду в опытных, хорошо знающих оперный репертуар и умеющих работать с исполнителями дирижерах. Мне кажется, что для того, чтобы быть оперным дирижером, надо прежде всего иметь к этому склонность, любить певцов, пение, хорошо понимать его природу. Выявлять эту склонность надо, очевидно, уже в процессе обучения новых дирижерских сил.
Вокалисты миланской оперы преподали хороший урок нашей певческой молодежи. Они показали, что благодаря упорной и правильной работе певец с самыми скромными голосовыми данными может прийти к желаемым результатам и принести пользу в оперном деле любых масштабов. Хочется надеяться, что многие задумаются над этим и пересмотрят свое отношение и требовательность к труду, тем более, что у нас есть немало молодых певцов, богато одаренных природой.
Надо только совершенствовать свое мастерство и не думать, что искусство пения заключается только в громком звучании, существует еще главное — музыка.
В КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ
Н. ШУМСКАЯ
ДМИТРИЙ БЛАГОЙ
Л. ГИНЗБУРГ
М. НЕСТЬЕВА
А. ТУМАНОВ
Т. ГАЙДАМОВИЧ
И. БЕЛЕНЬКАЯ
Р. ГЛЕЗЕР
Поет Долуханова
Мы давно знаем Зару Долуханову как обладательницу гибкого колоратурного меццо-сопрано. Но в концерте на фестивале «Русская зима» она блистательно пела арии Тоски и Манон (из одноименных опер Пуччини), тончайшие по отделке концертные вокализы А. Арутюняна, «хрупкие» вокальные миниатюры М. Таривердиева на стихи Б. Ахмадуллиной и Л. Мартынова, романсы Ю. Шапорина, песни С. Прокофьева и Шуберта, продемонстрировав такое яркое звучание высокого регистра, какое доступно лишь певцам, обладающим сильным лирико-драматическим сопрано.
Неограниченна способность артистки к перевоплощению. Для каждого автора Долуханова умеет найти особую, нужную именно для данного произведения душевную настройку, эмоциональную и психологическую атмосферу музыкального повествования. Трагически пламенное «Заклинание» Ю. Шапорина потрясает в ее интерпретации как гневный протест против смерти, разлуки, небытия; трогает и вызывает глубокое сочувствие «Маргарита за прялкой» Шуберта; радует и забавляет «Болтунья» С. Прокофьева. И все это искренно, от души... Поет Долуханова естественно, просто, словно бы и не предшествовал этому огромный, самозабвенный труд. Кажется, что петь для нее все равно, что дышать, и что думает она только о музыке, о слове в музыке и о чувстве в музыке.
В романсе Ю. Шапорина «Прохладой ночь дохнула», насыщенном романтикой русского «музыкального востока» и поэзией искреннего человеческого чувства, голос певицы полон нежности и теплоты, дыхание словно не прерывается, звуки как бы переливаются один в другой. Мелодия беспредельна в своем течении.
Совсем иные требования предъявил исполнительнице в своих музыкально-поэтических новеллах М. Таривердиев. Его образное мышление оригинально синтезирует музыкальную декламацию, пение, инструментальное звучание, приемы, идущие от современного джаза или эстрадного искусства западных шансонье. Закономерности разговорной речи с ее интонационной остротой, тонко детализированной альтерацией звуков и ритмической свободой определяютважную роль цезур, пауз, распределения акцентов, кульминаций и спадов.
Все это чутко восприняла Долуханова; передавая психологическую содержательность и театральность лаконичных «моносцен», она тонко подчеркнула и их эмоциональный подтекст, и стилистические особенности. В цикле на стихи Б. Ахмадуллиной («Пятнадцать мальчиков», «Старинный романс», «Я думала, что ты мне враг») это юношеская стремительность it трепетность поэтической интонации, интенсивность и бескомпромиссность душевной жизни молодой героини. В романсах на стихи Л. Мартынова налет легкой
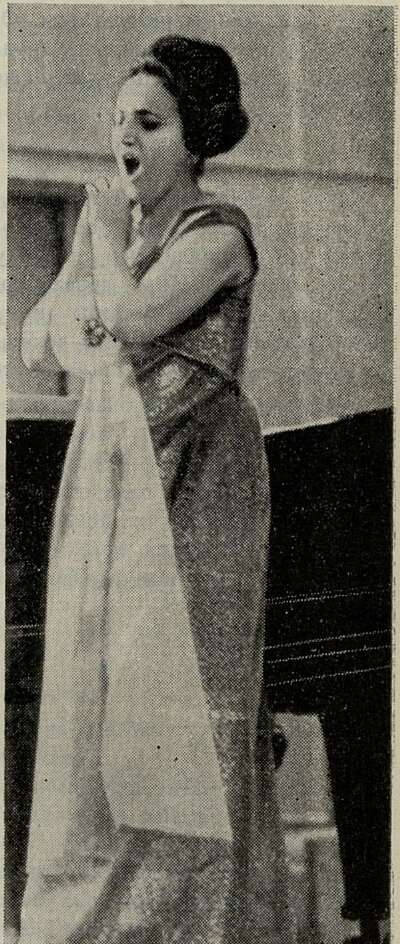
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Призыв матери 5
- Песни Александры Пахмутовой 8
- В. Рындин — театральный художник 13
- «Октябрь» в Большом 22
- Своей дорогой 26
- Живая русская традиция 33
- В стране Курпатии 36
- «Ночной поезд» 41
- Песни из цикла «Акварели»: «Клены», «Эй, дождик!» 46
- Пятая премьера 50
- В партитуре и на сцене 53
- Одесские очерки 60
- Говорит Бенджамин Бриттен 67
- Новые перспективы 68
- В восприятии наших современников 80
- Разговор о Равеле 84
- Совершенствовать вокальное мастерство 89
- Поет Долуханова 98
- Новое в программах 99
- Солирует контрабасист 100
- Александр Слободяник 101
- Молодежь из Тбилиси 102
- Трио «Бухарест» 102
- Письма из городов. Донецк 103
- Письма из городов. Кисловодск 104
- Телевидение: С карандашом у экрана 105
- По следам наших выступлений: Дети ждут! 107
- «Воццек» и музыкальный экспрессионизм 109
- Нестареющая музыка 119
- Фестиваль в Познани 123
- Быдгощ и Торунь, 1966 127
- Письмо в редакцию 129
- Большой театр в Милане 130
- Спустя два века 139
- Вдумчивый музыкант-педагог 141
- И скучно и грустно 144
- Коротко о книгах 146
- В смешном ладу 148
- Поздравляем женщин! 150
- Хранительницы песен 154
- Трагедия исчезнувшего села 155
- «Княжна Майя» 156
- На сцене — герои Маршака 156
- В союзах композиторов 157
- Поздравляем юбиляров 157
- Поздравляем юбиляров 158
- В Поволжье 159
- Второе рождение 159
- Новая роль. Неожиданный дебют 161
- «После третьего звонка» 161
- Бетховенский цикл в Казани 161
- Колхозная музыкальная 162
- Премьеры 163
- Памяти ушедших. П. Ф. Покромович 165



