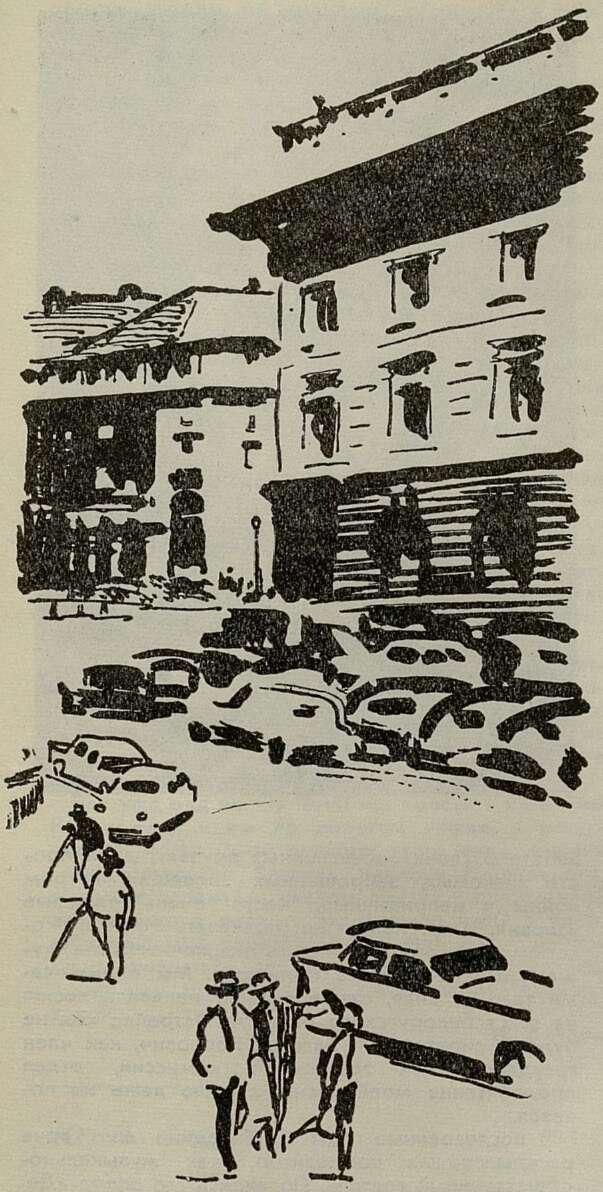
тельно пел Ганс Хопф, превративший божественного Зигфрида в глуповатого добродушного увальня. Хорошее впечатление произвел бас Арнольд ван Милл: его мрачный, медлительный, затаивший безысходную злобу Хаген был едва ли не самой выразительной фигурой в спектакле. И еще в маленькой роли валькирии Вальтрауты поразила Регина Резник — обладательница исключительного по красоте и гибкости «бархатного» контральто.
О режиссуре в этом спектакле говорить в общем нечего. Каждый исполнитель, по своему усмотрению, играл или не играл — ни о каком сценическом ансамбле не могло быть и речи. Лишь в начале третьего акта, когда «дочери Рейна» начали совсем по-балетному резвиться в воображаемых волнах, нам показалось, что режиссер хоть с кем-то из участников немного поработал.
Обидно было уезжать из Италии, так и не услышав артистов из основной труппы Миланского театра, не увидев спектаклей, созданных силами его коллектива, тем более, что мы слышали восторженные отзывы о поставленных в этом же сезоне «Фальстафе» и «Богеме». Но в своем роде и международный «концерт в костюмах» поучителен. Во всяком случае, мы имели возможность на его фоне полнее оценить творческие искания оперных театров Рима и Флоренции.
«Гибель богов» закончилась во втором часу ночи. Публика аплодировала и вызывала дирижера, но это были куда более умеренные аплодисменты по сравнению с бешеным шквалом римской «галерки». Лавируя среди благоухающих мехов и галстуков «бабочкой», мы пробирались к выходу. Стояла теплая летняя ночь. Слева, по улице Верди, к театру подкатывали ослепительные лимузины, а над домами, в темной глубине южного неба, парил подсвеченный шпиль Миланского собора с золотой статуей Мадонны. Мы ехали в весело грохочущем трамвае, где билеты оплачивались по повышенному ночному тарифу, и думали о том, что это наши последние часы в Италии. Рано утром предстояло вылететь в Париж, где уже в полдень нас должен был ожидать московский самолет...
НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Е. К. Тикоцкий

Почти сорок лет прошло с того дня, когда я впервые узнал Тикоцкого — композитора и человека. Уже при первом знакомстве с Евгением Карловичем как-то сразу почувствовалась его редкая общительность. Тогда же зародилась глубокая дружба, которая связывает нас столько десятилетий.
Как сейчас помню, с каким вниманием он слушал мои высказывания по поводу его Первой симфонии, открывшей счет этому жанру в белорусской музыке. Симфония была посвящена борьбе народов нашей страны против интервентов, за светлую жизнь свободного государства рабочих и крестьян. В ее третьей части очень непринужденно и убедительно переплетались темы весьма популярных тогда в Белоруссии «Варшавянки», «Конной Буденного» и белорусской песни «Чаму ж мне не пець». И хоть были в сочинении некоторые композиторские просчеты, музыка волновала, привлекала напором новых сильных образов.
В дальнейшем легко было убедиться, что Евгений Карлович умеет не только отлично выслушивать критические замечания, но и делает из них полезные для своего творчества выводы и в свою очередь сам всегда готов дать товарищу дельный совет. Словом, сразу выяснилось, что он любит не себя в музыке, а музыку для людей. Широкий круг интересов Евгения Карловича уже тогда обращал на себя внимание. Пушкин и Горький, Шевченко и белорусская поэзия, полет в стратосферу и челюскинская эпопея, индустриализация страны и колхозное строительство — на все это многообразие тем он стремился отозваться своим творчеством, обращаясь к самым различным жанрам. В довоенный период он пишет ряд камерных ансамблей и Концерт для тромбона с оркестром, вокально-симфонические поэмы и оперу «Михась Подгорный», обработки белорусских народных песен и Вторую симфонию, музыку к драматическим спектаклям и к всесоюзным физкультурным парадам.
А когда началось лихолетье войны, мы все узнали Евгения Карловича в новом «качестве». Теперь он уже не только создает огромное число произведений, мобилизующих на борьбу против ненавистного врага. Разлученный с семьей (она осталась случайно на территории, оккупированной фашистами), поседевший от горя, Е. Тикоцкий все время, свободное от напряженной творческой работы (уже в 1942 году он приступил к сочинению оперы «Алеся» — о торжестве победы над гитлеровскими полчищами), отдает заботе о своих бесчисленных друзьях, да и просто знакомых, заброшенных зловещим ветром войны в непривычные, часто очень тяжелые условия. И тут нельзя не рассказать о факте, в котором еще раз проявилось исключительное душевное благородство Тикоцкого. Мы с ним, сами того не зная, одновременно написали песню на текст белорусского поэта А. Острейко «Ты не будешь сиротою». И Евгений Карлович, как член государственной закупочной комиссии, отдал предпочтение моей песне, а свою даже не показал.
В послевоенные годы Е. Тикоцкий еще ярче раскрылся как композитор, как музыкально-общественный деятель. Появились его опера «Девушка из Полесья», три новые симфонии, ряд симфонических поэм и увертюр, оратория, фортепианный концерт, крупные циклические произведения для белорусского народного оркестра, кино- и театральная музыка, романсы и хоры. Опять широта и многообразие творческих интересов, стремление в своей музыке воспеть любовь к жизни и людям. Е. Тикоцкий избирался депутатом Верховного Совета республики, председателем Правления Союза композиторов Белоруссии, членом Правления Всесоюзной композиторской организации. Он удостоился высшего почетного звания для советского художника — Народного артиста Союза ССР. Орден Ленина и два ордена Трудового Красного Знамени украшают его грудь. Однако Евгений Карлович остался все таким же простым и скромным человеком, искренне всем увлекающимся, любящим
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза 5
- Теория отражения и музыка 7
- Певец Украины 16
- Композиторы Дагестана 21
- Выдающийся просветитель-музыкант 26
- Новое в гайдниане 32
- Необходимы радикальные изменения 34
- Внимание и взыскательность 37
- Встреча с Вагнером 40
- Большой сибирский 46
- Двое молодых 54
- Гости с Иртыша 58
- Служение музыке 63
- Поэтичность и строгость 68
- Три лауреата 70
- Первый лидский 73
- Заметки о мастерстве 74
- Знакомство с певцом 81
- Контрабасист-виртуоз 82
- Имени Обретенова 83
- Горячность чувств 84
- Играет Огдон 86
- «Кларион Концертс» 88
- Творческая убежденность 89
- Друзья из Англии 90
- Призвание 92
- Песни Мексики, Бразилии, Кубы 95
- Расширять музыкальный кругозор 98
- Опера в концертном исполнении 101
- Внимание: русская частушка! 104
- …И творчески выполнять 106
- Возродить былые традиции 110
- Музыка, общество, «авангард» 112
- Выдающийся мастер современности 117
- Композитор рассказывает 122
- Пять вечеров в итальянской опере 128
- Е. К. Тикоцкий 138
- Ю. Н. Тюлин 139
- Л. А. Энтелис 140
- С. Ю. Левик 141
- Решения партии — в жизнь! 143
- Городу и селу 144
- Будет песня ульяновцам! 145
- «Шакунтала» 145
- «Рябиновое ожерелье» 146
- Хорошее дело 147
- Это будет в шестьдесят четвертом! 148
- Сердечно поздравляем! 149
- В Институте искусств 150
- Первый Северо-Кавказский 152
- Артистические удачи 153
- Интервью с любителем музыки 154
- Юбиляры — гости москвичей 155
- К статье «В Институте искусств» 156
- 50 лет успеха 158
- Ю. Григоровичу 158
- Памяти ушедших. И. И. Туски, Г. П. Фельдман 159
- Указатель статей журнала «Советская музыка» за 1963 год 160



