Встреча с Асафьевым
Разбирая архив, я случайно обнаружил среди вороха бумаг заметку Бориса Владимировича Асафьева — три маленьких, вырванных из блокнота листка, мелко исписанных чернильным карандашом. Записи хорошо сохранились, хотя и были сделаны двадцать лет назад, зимой 1943 года.
Я несколько раз перечитал рукопись; постепенно память со всей ясностью восстановила обстоятельства, в которых были написаны эти строки.
...Борис Владимирович Асафьев, пережив две блокадные зимы, был по решению правительства эвакуирован из Ленинграда и вместе с женой приехал 15 февраля 1943 года в Москву.
Асафьевы поселились в гостинице «Националь». Я навестил Бориса Владимировича вскоре после его приезда. Угловой, довольно большой номер, расположенный на третьем этаже, мало напоминал гостиницу: заставленный мебелью, чемоданами, домашним скарбом, он показался мне поначалу слишком тесным, хотя и не лишенным своеобразного уюта.
Похудевший и бледный, одетый в теплую пижаму и теплые домашние туфли, Борис Владимирович встретил меня с приветливым радушием. Он был рад гостям, даже мало знакомым. Казалось, ему доставляло ни с чем не сравнимое удовлетворение сознание того, что он еще нужен людям, что они интересуются его творчеством, его жизнью...
В номере Асафьева я увидел пожилого, очень высокого и очень худого человека. Это был Владимир Николаевич Римский-Корсаков — сын великого композитора. Он пришел к Асафьеву, чтобы познакомиться с монографией о своем отце, которую только что закончил Борис Владимирович.
Представляя своего гостя, Асафьев сказал:
— Всей своей музыкальной деятельностью я обязан Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову. Он определил меня, двадцатилетнего юношу, в консерваторию, выхлопотал полную стипендию и благословил на композиторский путь. Он был первым, кому я рискнул показать только что написанный опус моих юношеских романсов... И хотя это было очень давно, я до сих пор помню его советы относительно развития композиторского слуха и композиторской рабочей дисциплины...
Я сделал несколько фотографических снимков, а затем попросил Бориса Владимировича поделиться творческими замыслами.
— Позвольте мне написать, — сказал Борис Владимирович и как-то смущенно улыбнулся. — Говорить мне трудно, я лучше напишу... Знаете ли, когда кончик карандаша соприкасается с бумагой, мысль как бы находится на острие карандаша и свободно выливается на бумагу...
Минут через десять я получил от него впервые публикуемую ниже заметку. Она не была напечатана. Мне кажется, читателям будет интересно познакомиться с ней: небольшая по размеру, она с непосредственной искренностью характеризует «блокадный» период жизни Асафьева, его отношение к героической обороне города Ленина.
Вот эта заметка:
Я работаю в настоящее время над инструментовкой балета на тему о югославском партизанском движении, «Милица», а в области книг о музыке продолжаю цикл своих «Мыслей и дум» (до 24 работ, из которых завершено 18), задуманный несколько лет назад и выполнявшийся с первых месяцев блокады Ленинграда, в условиях — при всей своей трагичности — поднимающих интеллект и волю на высшую ступень духовного творческого подъема.
Мне казалось, что советская мысль не должна застывать ни в каких трудных переживаниях Родины, и я просто и естественно начал работать, пользуясь каждым возможным для творчества моментом, борясь со своим хрупким организмом. Я писал музыку и театральную, и камерную, и песни для фронта, вдохновляемый изумительными по своей моральной силе и ясности духа и сердца людьми, сражающимися на фронте.
Я написал книгу о своей жизни — о том, как создавался во мне музыкант, как росли силы и в чем состоит творческая композиторская работа. Я написал большое исследование о Глинке и другие. Но, главное, я счастлив, что ощутил величие героической обороны Ленинграда, — проявле-
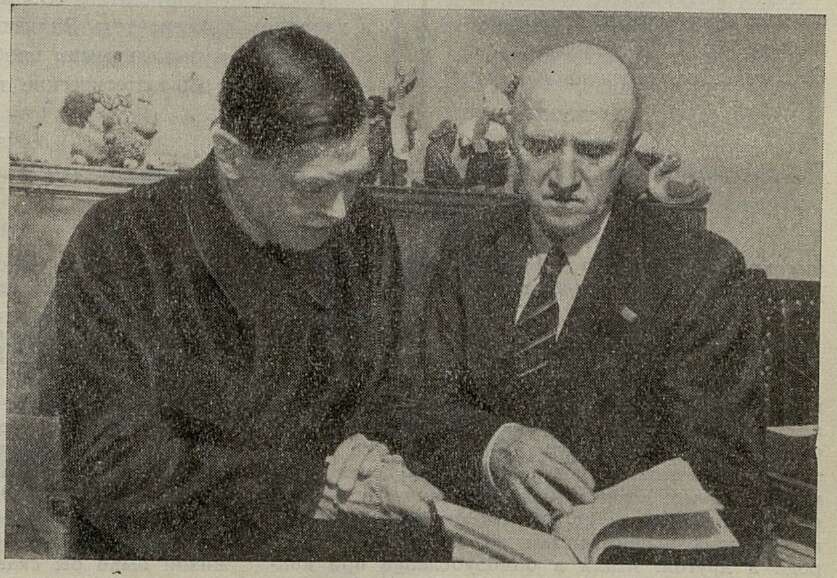
В. Римский-Корсаков и Б. Асафьев
Фото автора (публикуется впервые).
(Продолжение «Встреча с Асафьевым»)
ние могучей воли к победе и железной стойкости русского народа на страже города Ленина.
Б. Асафьев».
Асафьев прочитал заметку вслух, спросил, правильно ли он понял мое «задание» и смогу ли я «расшифровать» его крайне неразборчивый почерк?.. Ирина Степановна Асафьева, все время молча слушавшая наш разговор, обращаясь ко мне, сказала: «Борис Владимирович о многом не говорит... А знаете ли, как он работал?.. Мы несколько раз переезжали из одного конца города в другой. Жили в бомбоубежище при консерватории, потом в актерских уборных Александрийского театра, затем в Институте истории искусств, пока, наконец, не переехали на свою квартиру на площади Труда, которая за время блокады пришла в полную негодность... Борис Владимирович трудился непрерывно, буквально не разгибая спины. Положив книгу с писчей или нотной бумагой на колени (о письменном столе нечего было и думать!), он писал и музыку, и научные работы, не обращая внимания ни на голод, ни на бомбежки, ни на нездоровье...»
По лицу Бориса Владимировича скользнула неловкая улыбка. Он попытался что-то сказать, но не решился. Мне показалось, что слова жены смутили его, что он вовсе не хотел, чтобы о его жизни было бы сказано больше того, что сказал он сам...
Ал. Лесс
Они приняты в Союз
Каждый год в дружную многонациональную семью советских композиторов и музыковедов вливаются новые силы. Среди принятых за последнее время немало талантливой молодежи.
Ленинградцы Г. Белов и Б. Тищенко еще занимаются в аспирантуре у Д. Шостаковича, но оба уже успели зарекомендовать себя как способные композиторы. В открытых концертах исполнялись Хоровая сюита Г. Белова (на стихи А. Твардовского) и вокальный цикл «Белый аист» Б. Тищенко. Вместе с ними вступил в союз еще один молодой ленинградец — Г. Фиртич (ученик Б. Арапова).
Новое пополнение пришло в украинскую организацию. Это М. Скорик (ныне аспирант Московской консерватории по классу Д. Кабалевского), чья Сюита для струнного оркестра с успехом прозвучала в Москве и на Всемирном молодежном фестивале в Хельсинки, Ю. Ищенко (ученик А. Штогаренко) и О. Носик, окончивший Институт им. Гнесиных по классу В. Крюкова.
Хорошие вести приходят из разных городов страны, о деятельности некоторых выпускников столичных музыкальных вузов. В композиторскую организацию Киргизии вступил воспитанник Московской консерватории В. Кончаков (ученик Е. Голубева), который не только активно занимается творчеством, настойчиво изучая киргизский фольклор, но и успешно ведет класс композиции во Фрунзенском музыкальном училище. Хорошо работает в музыкальном училище Семипалатинска новый член Казахского союза, педагог и композитор Т. Базарбаев (ученик К. Кужамьярова). А малочисленная композиторская организация Бурятии пополнилась молодым теоретиком, аспирантом Института истории искусств Б. Олзоевым. Его работы «Древние игры и танцы бурятского народа», «Музыкальное песенное творчество Бурятии» и ряд статей обнаруживают в нем способности к историческому и теоретическому мышлению.
Наряду с молодежью в Союз вступают и те, кто уже накопил некоторый опыт творческой, педагогической и общественной деятельности. Среди них музыковед Г. Лапчинский, который сразу же после окончания Ленинградской консерватории уехал в Петрозаводск и на протяжении ряда лет активно участвует в строительстве музыкальной культуры Карелии.
Членами композиторских организаций стали и авторы популярных эстрадных произведений Лили Иашвили (Тбилиси), Ю. Саульский и В. Людвиковский (Москва).
Л. П.
На трибуне — лекторы
Со всех концов страны съехались они в Москву на Всесоюзное совещание, организованное Союзом композиторов и Министерством культуры СССР в конце января с. г. Прослушали доклад «Искусство и коммунизм» и ряд лекций о проблемах современной советской и зарубежной музыки. Обменялись опытом. Завязался серьезный разговор.
Главная задача сегодня — пропаганда советской музыки. В текущем году две трети постоянных лекториев и народных университетов знакомили своих слушателей с лучшими произведениями советских композиторов, однако далеко не всех национальных республик. Поэтому в один голос требовали выступавшие наладить постоянный межреспубликанский обмен лекторами, нотным материалом, разработками тем, посвященных развитию национальных музыкальных культур.
На совещании возник вопрос: нужно ли знакомить массового слушателя с проблемами современного западного творчества, следует ли говорить в широких аудиториях, скажем, о том же джазе.
По словам В. Фрумкина и А. Утешева, в ленинградских лекториях не боятся дискуссионной заостренности тем. Не устарела ли опера, является ли джаз, «музыкой молодых», каковы пути и средства обновления музыки, почему додекафония получила такое распространение на Западе — на любой из этих вопросов нужно дать убедительный ответ, показав на конкретных примерах, что, допустим, додекафонный метод приводит на деле к отрицанию идейно-эмоционального содержания музыки, к ее вырождению.
Представитель Литвы Ю. Шпигельглазас рассказал, что в народном университете Вильнюса стремятся заинтересовать слушателей музыкальными проблемами сегодняшнего дня, затрагивая и общеэстетические темы.
Лекционная пропаганда никак не может обойти и проблемы легкой, так называемой развлекательной музыки. Если не дать правильной оценки современным зарубежным джазам, не показать их эволюции, не развенчать публично, они проникнут в быт молодежи с «черного хода».
О «технологии» лекторского мастерства, об опасности шаблона и штампа, о необходимости изыскивать новые формы подачи материала говорилось, пожалуй, столь же горячо, как и о содержании лекторской работы. Большинство ораторов высказалось за принцип «сквозной» лекции, который позволяет более тесно связать слово о музыке с самой музыкой, исключает возможность появления «случайных», не относящихся к теме музыкальных иллюстраций.
Справедливо говорилось о большом значении активных форм работы со слушателями. И тут вновь запевалами выступили ленинградцы, рассказавшие о нескольких удачных попытках установить с аудиторией так называемые «обратные связи» (непосредственное участие слушателей в распознавании, допустим, полифонических приемов и т. п.). А какой большой интерес вызывают обычно музыкальные диспуты, дискуссии!
Немало вопросов, касающихся лекторской «кухни», всплыло на совещании. Отвечая на них, «патриархи» лекторского дела Г. Назарьян и А. Должанский, руководившие семинаром по мастерству, особо подчеркивали, что чтение лекции — это творческий процесс, в котором роль импровизации весьма велика. Разумеется, основные мысли и положения остаются незыблемыми, но форма их подачи может каждый раз рождаться заново в зависимости от состава аудитории, от степени ее восприимчивости. Плохо, когда лекция производит впечатление затверженного урока или раз навсегда подготовленного концертного номера.
Специальное занятие было посвящено музыкальной пропаганде среди детей. В нем принял участие Д. Кабалевский, поделившийся своим обширным опытом общения с детской аудиторией.
— Каждый советский музыковед, — сказал он, — должен сказать себе: я обязан отдать часть своих знаний, вдохновения детям. Это мой гражданский долг. Прежде чем учить ребят, надо сперва увлечь, заинтересовать их музыкой, тогда появится и жажда знаний. К ним нужно приходить не с лекцией, а с живой, интересной беседой.
Невозможно перечислить всех вопросов, затронутых на совещании. И это понятно: ведь во всесоюзном масштабе подобное собрание лекторов проводится впервые после длительного перерыва.
Участники совещания выразили надежду, что в дальнейшем они смогут встречаться и обмениваться опытом систематически.
И. Фаддеева
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Песня о Ленине» 5
- Ленин слушает Бетховена 9
- Самая любимая песня 15
- Ответственность художника 17
- Доброго творческого пути! 19
- Секрет молодости 22
- О нашей профессии 31
- Упадок или обновление? 35
- Развитие традиций 41
- Третья симфония Бородина 47
- Письмо В. В. Стасова 53
- «На баррикады!» 64
- О последних сонатах Бетховена 71
- Заметки о подготовке музыкантов 78
- Памятка 80
- Из воспоминаний 82
- Из воспоминаний 83
- Из воспоминаний 86
- Ф. М. Блуменфельда 87
- Замечательный музыкант 90
- Вокальные вечера: Надежда Казанцева 94
- Вокальные вечера: Александр Ведерников 95
- Вокальные вечера: Валентина Левко 96
- Вокальные вечера: Молодые певцы 96
- Вокальные вечера: Новинки камерной музыки 97
- Вокальные вечера: «Дитя и волшебство» 98
- На симфонических концертах: Дрезденская капелла 100
- На симфонических концертах: Кубинский дирижер 102
- На симфонических концертах: Оркестр Польского радио 102
- Камерный оркестр консерватории 103
- Оркестр Вильнюсской школы искусств 104
- Аргентинская гитаристка 105
- Письмо в редакцию: И. Маркевич отвечает И. Стравинскому 106
- На гастролях киевлян 107
- Все ли благополучно? 111
- Современная тема обязывает 117
- «Мир композитора» 119
- Критики и апологеты польского "авангарда" 124
- Варшавский Большой театр 130
- Э. Майер и его Фортепианный концерт 133
- Новые оперы 134
- Впереди большая работа 136
- «Лулу» Альбана Берга 137
- Франсис Пуленк 138
- Наши друзья пишут о своих планах 141
- Современники о Чайковском 142
- Живой Рубинштейн 144
- Исследование об армянском музыканте 146
- Вышли из печати 147
- Наши юбиляры: Ю. С. Милютин 148
- Наши юбиляры: Б. М. Терентьев 149
- Образ вождя 151
- Новелла о Ленине 153
- Памяти павших, во имя живых! 155
- В Министерстве культуры СССР 155
- 70 и 50. К юбилею Г. А. Столярова 156
- Встреча с Асафьевым 157
- Они приняты в Союз 158
- На трибуне - лекторы 158
- Премьеры 159
- После юбилея 159
- Старейшее училище Сибири 159
- А. Шелест — Клеопатра 160
- В Комиссии музыкальной критики 160
- От имени шефов 161
- Гости из Закарпатья 162
- Памяти ушедших. С. Н. Кнушевицкий 163
- Памяти ушедших. Я. А. Эшпай 163
- Памяти ушедших. Г. П. Прокофьев 164



