ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО
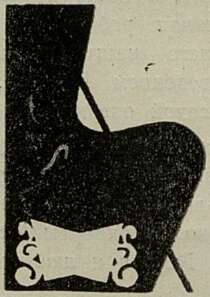
Е. РАЦЕР
Евгений Светланов
Рано и как-то сразу вошел в «большую музыку» Евгений Светланов. Еще будучи студентом дирижерского отделения Московской консерватории (класс А. Гаука), он по конкурсу стал дирижером-ассистентом Большого симфонического оркестра радио. А еще через год строгий и требовательный наставник («благословил» его на участие в новом конкурсе, победив на котором Светланов был принят в Большой театр.
Вскоре он окончил консерваторию. Его дипломной работой по разделу симфонического дирижирования был концерт с оркестром радио: Вторая симфония Рахманинова, Концерт для виолончели Мясковского и Вторая сюита «Дафнис и Хлоя» Равеля. Уже сама программа — а исполнена она была отлично — говорила о смелости и серьезности исполнительских намерений молодого дирижера, о том, что уже тогда самые сложные задачи были ему по плечу. Несколько необычным для студента консерватории был диплом Светланова по оперному дирижированию: не спектакль в консерваторской оперной студии, а «Псковитянка» в Большом театре.
Общение с первоклассными оркестровыми коллективами сыграло огромную роль в формировании Светланова-дирижера. Осуществляя свои замыслы, он сразу же получал возможность пользоваться не «школьным набором красок», а палитрой мастера. И возникала постоянная полезная «опасность» сравнения с ведущими дирижерами, работавшими с этими оркестрами, что ко многому обязывало... Так, дирижерская биография Светланова оказалась как бы почти лишенной «детства»: он сразу стал «взрослым».
Правда, Светланов пришел в консерваторию уже в значительной степени сложившимся музыкантом. До этого он окончил Институт им. Гнесиных как пианист; его педагогом была М. Гурвич, ученица Метнера. Важное значение для профессионального роста Светланова как дирижера имели и его занятия композицией, сначала в училище им. Гнесиных у М. Гнесина, затем в консерватории, под руководством Ю. Шапорина. Он является автором Симфонии, симфонической поэмы «Даугава», созданной на материале латышских песен под непосредственным впечатлением
от поездки в Латвию, а также «Сибирской фантазии» (в основу этого произведения, написанного совместно с И. Якушенко, легли песни А. Оленичевой). Особо хотелось бы упомянуть его «Рапсодию для оркестра». Думается, что эта пьеса, отличающаяся яркостью оркестрового колорита и явно выраженным танцевальным характером (три непрерывно следующие друг за другом части написаны в различных характерных испанских ритмах), могла бы послужить основой для создания одноактного балета.
*
Со времени поступления Светланова в Большой театр в его репертуар вошли «Псковитянка», «Царская невеста», «Чародейка», «Русалка», «Князь Игорь», «Садко», «Снегурочка», а также опера Р. Щедрина «Не только любовь».
Сам дирижер объясняет выбор «Псковитянки» в качестве своей первой работы тем, что «хотелось начать сразу с самого трудного». Правда, сейчас, после того как прошли успешные выступления Светланова в Москве и Ленинграде с таким сложнейшим произведением, как «Весна священная» Стравинского, он говорит о «трудностях» «Псковитянки» не без улыбки. Но для нас это ничего не меняет. «Псковитянка» была серьезной заявкой, открывшей нам даровитого оперного дирижера. Среди последующих работ выделяется постановка «Чародейки» Чайковского, по существу почти премьера: «Чародейка» очень давно не шла на московской сцене. Здесь Светланов предстает уже как более опытный и зрелый мастер.
Радует обращение дирижера к современной тематике. Пусть спектакль «Не только любовь» вызывает споры. Но проблема современной советской оперы — проблема сложная. Тут нужны совместные усилия всех участников постановки. И то, что Светланов активно включился в общую работу, можно только приветствовать.
К перечню его театральных работ следует добавить записи таких крупнейших произведений русской оперной классики, как «Пиковая дама» и «Хованщина», сделанные для кино. Несмотря на то, что условия кинематографа потребовали целого ряда сокращений, обе эти работы заняли важное место в творческой биографии Светланова. «Хованщина» интересна тем, что это первое исполнение у нас новой оркестровой редакций оперы, сделанной Д. Шостаковичем. В «Пиковой даме» специфика воплощения партитуры в кинокадре позволила дирижеру как бы заново взглянуть на нее, снять с музыки Чайковского некоторые традиционно-театральные наслоения.
Ряд опер был показан Светлановым в концертном исполнении. Вспоминается, например, опера-балет «Млада». Эта сложная, во многом экспериментальная партитура Римского-Корсакова, была, вероятно, важнейшей вехой на пути дирижера к «Весне священной».
Недавно Светланов показал еще одну «концертную» работу — оперу В. Мурадели «Октябрь».
В оперном жанре его привлекают прежде всего произведения масштабные, монументальные. Большие хоровые сцены, которых так много в русской оперной литературе, он ведет с явным удовольствием, сочно и ярко. Он прекрасно чувствует эпос русской истории. Но к прошлому у него отнюдь не «музейный» интерес. Его влечет прежде всего внутренняя величавость образов, их мощь, сила. Их-то и берет «на вооружение» Светланов, умея услышать «голос веков» слухом современного художника.
Светланов хорошо чувствует сцену. Сопоставление и чередование различных по своей эмоциональной окраске кусков возникает у него логично, подчиняясь общему развитию картины, акта. Прекрасным примером может служить «Терем Ярославны». Горестные размышления жены Игоря, жалобы девушек и сцена с Галицким составляют единую линию «нагнетания», завершающуюся остродинамичной сценой пожара. Убеждают и лирические эпизоды, особенно там, где лирическое начало носит более обобщенный, эпический характер, такие, как, скажем, ария князя Игоря. Что же касается более индивидуализированной лирики, то моментами кажется, что Светланов ее будто бы стесняется и пока не дает себе раскрыться в ней так же свободно, как в сценах драматических.
Хотя он не считает балет своей родной стихией, и в этом жанре у него есть ряд больших удач: «Тропою грома» Кара Караева, «Паганини» на музыку «Рапсодии для фортепиано с оркестром» Рахманинова, «Ночной город» Бартока (своеобразная «модификация» балета «Чудесный мандарин»). Вполне соглашаясь с критикой этого спектакля в целом, нельзя, однако, не сказать, что собственно музыкальная работа Светланова, впервые познакомившего нашу публику с этим интересным произведением Бартока, безусловно заслуживает высокой оценки.
Не менее обширна деятельность Светланова и как симфонического дирижера. В его репертуаре почти весь Чайковский, весь Скрябин, Пятая и Восьмая симфонии Глазунова, концерты Метнера, произведения Дебюсси и Равеля и любимый им Рахманинов.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Баллада о русских мальчишках» 5
- Главное призвание советского искусства 8
- Поиски и заблуждения 12
- Поиски заблуждения. — И спорить, и действовать (вместо отчета) 19
- В стремлении к современности 28
- Решения мнимые и истинные 33
- К 150-летию со дня рождения А. С. Даргомыжского: «Чухонская фантазия». — Два очерка о Даргомыжском. — Письма А. С. Даргомыжского Станиславу Монюшко. —Страницы из автобиографии Ю. Ф. Платоново 40
- Сэр Джон Фальстаф 61
- Решение партийного комитета Большого театра и КДС от 3 ноября 1962 года 68
- Евгений Светланов. — Заметки о воспитании виолончелистов. — Имени Венявского... — Дирижер, оркестр, партитура. — Конкурс имени Глинки 69
- К 90-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина: В работе над «Алеко». — Комета по имени Федор 83
- Магнитогорцы. — Лев Оборин. — «Бородинцы» играют современную музыку. — Югославская музыка. — Играют Менухины. — Американский хор. — Письмо из Ленинграда 99
- Дело государственной важности. — От редакции 110
- Петербургский диплом Юльюша Зарембского. — Заметки без музыки 117
- За рубежом 127
- Новаторский труд. — Узбекская народная музыка 144
- Наши юбиляры: В. М. Беляев, М. И. Блантер 148
- Хроника 151



