позиторские лавры. А что же есть? Есть полное растворение в «ходячих» бытовых интонациях. Конгломерат их сложен, потому что пестры истоки: песня городской окраины (понятие-то само уже устарело!), модный танец, «блатные» мотивы и западный «модернчик».
И понятно беспокойство, которое выразил
Б. Троцюк: «Можно разъяснить Окуджаве, что он на неверном пути, и, вероятно, он это поймет. Но как это объяснить другим (его слушателям . — Ред.)? Стихи доходят, какой-то образ есть, а что под образом?»
Конечно, Б. Окуджава — случай, так сказать, крайний. Но в его практике лишь доведена до логического конца тенденция «интимного общения» со слушателем, в которой всегда есть опасность именно такого вот «приземления» музыкального образа. Признает ли эту опасность
А. Сохор? Признает: «...если композитор разговаривает со слушателем, обращаясь к нему в дружеском плане, наедине, то тут есть опасность фамильярности, сентиментальности, дешевой чувствительности».
Вон какой стороной может обернуться и оборачивается порой новая художественная тенденция! Так можно ли обходить ее молчанием, говоря о музыке Э. Колмановского?!
Завидна судьба его песни «Хотят ли русские войны?». Покорила она сердца многих простых слушателей, склоняет на свою сторону некоторых больших музыкантов1. Но вот что интересно: кажется, ни одна песня гражданского содержания не соприкасается так близко с лучшими произведениями Б. Окуджавы, как эта песня Э. Колмановского. Вспомните, например, «Песню о Леньке Королеве». Что роднит эти сочинения? Прежде всего, лирическая трактовка гражданской темы, высокое качество текста, некоторые структурные особенности в заключении. А что еще? Обиходность интонаций, однообразие минорного колорита. Конечно, Э. Колмановский в отличие от Окуджавы профессиональный композитор; в середине его песни появляется интересное ритмико-мелодическое развитие. Певец Леньки Короля сделать этого не может. Но внутреннее родство образов, в том числе и мелодических, несомненно. И тогда одно из двух. Или лирическая трепетность гражданской темы, современная стихотворная лексика, действенность традиций жанра четкого минорного «эйслеровского» марша освобождают музыку песни от необходимости иметь свои художественные достоинства, или мы все-таки будем продолжать искать в ней, в музыке, мелодическую свежесть, широкое дыхание, интересную интонационную находку, нестандартный гармонический язык. О том же, к чему приводит попытка найти какой-то средний путь, свидетельствует, например, позиция
В. Фере, который свое прежнее критическое отношение к песням «Я люблю тебя, жизнь!» и «Хотят ли русские войны?» считает «быть может... ошибкой». Но дальше он говорит: «В свое время критиковали... "Тишину" Э. Колмановского и "Ландыши" О. Фельцмана. И мне кажется, что Фельцман из критики товарищей извлек для себя... пользу... и написал ряд очень хороших песен, в которых заговорил другим языком. А вот Колмановский говорит по существу на том же самом языке. Вчера правильно заметил А. Цфасман, что фактически и "Тишина", и "В нашем городе дождь", и "Хотят ли русские войны?" являются песнями одного порядка».
Конечно, правильно! Так как же, Владимир Георгиевич? И критическое Ваше отношение к «Тишине» тоже было, «быть может... ошибкой», раз это песни «одного порядка» (в музыкальном отношении, разумеется)? Или все-такн придется признать, что бесспорным успехом своим песня «Хотят ли русские войны?» менее всего обязана музыке? И не ближе ли к истине
М. Чулаки, утверждающий: «Мы, профессионалы, не можем закрыть глаза на истоки песни Э. Колмановского, которые лежат в общительной, бытовой, чуть балагурной "одесской" интонации, рожденней при совсем других обстоятельствах, воспевающей совсем иной круг тем... Это не может не снизить степень выразительности песни "Хотят ли русские войны?". Я не говорю уже о несовпадении музыки с текстом: там, где у Евтушенко фраза начинает развиваться (в начале третьей строчки каждого куплета), там Колмановский упорно ставит точку».
...Многие ораторы жаловались, что на пленуме о песне говорят мало. Действительно, говорили немного, но взволнованно, горячо. Называли хорошее, радовались удачам (например, «А у нас во дворе...» А. Островского или «Стань таким, как я хочу» А. Флярковского) и особенно подробно останавливались на том, «что у нас плохо». Судьба песни, видимо, тревожит многих. Давайте еще послушаем, что об этом думают наши старые «морские волки» песенного жзнра.
Л. Утесов: «Работая над песней в течение огромнейшего периода времени, я замечаю склон-
_________
Например, Д. Кабалевского, чье выступление на пленуме полностью публикуется в настоящем номере журнала.
ность наших композиторов к минору... и отсюда появляется слезливость, о которой так много говорят, некоторая сентиментальность... В песне В. Мурадели "Россия" человек, радуясь расцвету Родины, поет : "Россия, Россия, Россия — родина моя!" И эти прекрасные слова поются на унылый, меланхоличный мотив!»
Д. Шостакович: «Положа руку на сердце следует сказать, что мы все еще недостаточно требовательны друг к другу и к самим себе. Слишком много еще появляется произведений, рассчитанных на самых невзыскательных потребителей песен... наносящих большой вред делу культурного воспитания».
А. Цфасман: «Меня глубоко волнует и печалит творчество А. Бабаджаняна. Это огромный музыкант, огромное дарование. Но его произведение "Аллея любви" — это американо-одесско-армянский "блатной" жанр... А "Разведенные мосты"? Это стиль... довоенного польского танго. Что же общего может быть у советского музыканта с этими интонациями?..
Или взять музыку Л. Лядовой "Негритянские игрушки" — это же невозможно слушать! Даже вещи, которые не рекомендованы певицам из ВГКО, она исполняет в своем авторском концерте на периферии...
Но рекорд поставил А. Лепин. В радиопередаче "С добрым утром" прошла его песня о дружинниках "Ночной патруль". На радио мы пленку с этой песней получить не могли, ее запретил выдать главный редактор отдела сатиры и юмора тов, Козлов. И неудивительно: запев напоминает танго примерно 21 года...»
М. Блантер признает талант и мастерство таких композиторов, как. А. Эшпай, А. Флярковскцй. Вместе с тем, говорит он: «Не думайте, что душевная "лирика вполголоса", которой примечательны их песни, новаторская по своей природе. Я помню Изу Кремер, это была чудесная певица, чудесная актриса, но в ее репертуаре преобладали именно такие вот нотки... Сейчас они безнадежно устарели...»
Да, вопрос, о штампах в песне, особенно песне лирической, по-прежнему остается одним из самых больных вопросов. И нельзя не согласиться с мнением.
А. Лобковского: «Самое скверное в наших песнях (разумеется, у нас появился и ряд талантливых сочинений в различных жанрах, и лирическом, и массовом) — это отсутствие каких-то творческих поисков, это нивелировка, интонаций, это невероятная заштампованность. А где появляется заштампованноесть, там кончается, творчество».
С КАРАНДАШОМ НА ПЛЕНУМЕ
Рис. А. Костомолоцкого
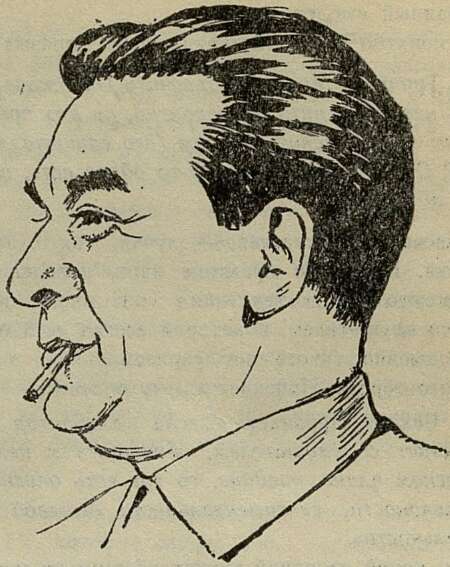
Л. Утесов
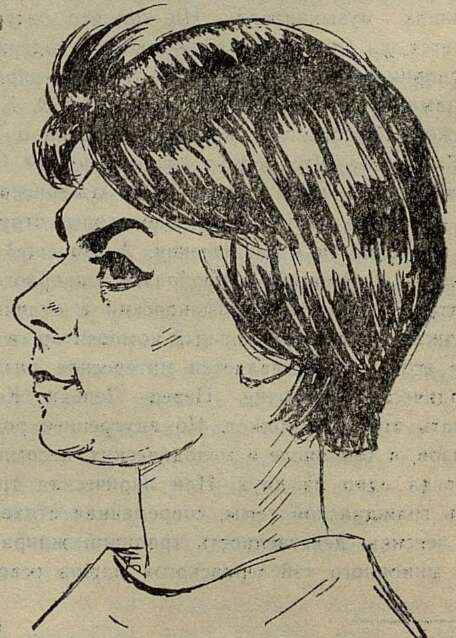
М. Кристалинская
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Баллада о русских мальчишках» 5
- Главное призвание советского искусства 8
- Поиски и заблуждения 12
- Поиски заблуждения. — И спорить, и действовать (вместо отчета) 19
- В стремлении к современности 28
- Решения мнимые и истинные 33
- К 150-летию со дня рождения А. С. Даргомыжского: «Чухонская фантазия». — Два очерка о Даргомыжском. — Письма А. С. Даргомыжского Станиславу Монюшко. —Страницы из автобиографии Ю. Ф. Платоново 40
- Сэр Джон Фальстаф 61
- Решение партийного комитета Большого театра и КДС от 3 ноября 1962 года 68
- Евгений Светланов. — Заметки о воспитании виолончелистов. — Имени Венявского... — Дирижер, оркестр, партитура. — Конкурс имени Глинки 69
- К 90-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина: В работе над «Алеко». — Комета по имени Федор 83
- Магнитогорцы. — Лев Оборин. — «Бородинцы» играют современную музыку. — Югославская музыка. — Играют Менухины. — Американский хор. — Письмо из Ленинграда 99
- Дело государственной важности. — От редакции 110
- Петербургский диплом Юльюша Зарембского. — Заметки без музыки 117
- За рубежом 127
- Новаторский труд. — Узбекская народная музыка 144
- Наши юбиляры: В. М. Беляев, М. И. Блантер 148
- Хроника 151



