ГОВОРЯТ [КОМПОЗИТОРЫ]
А. ЧИМАКАДЗЕ
В преддверии партийного съезда каждый из нас, музыкантов, особенно серьезно задумывается: каким оно должно быть, наше искусство сегодняшнего дня? Конечно, многообразным, потому что сила художественной культуры — не только в ее идейной содержательности, но и в ее стилистическом богатстве. Это давно известно, и я не открываю здесь никаких истин.
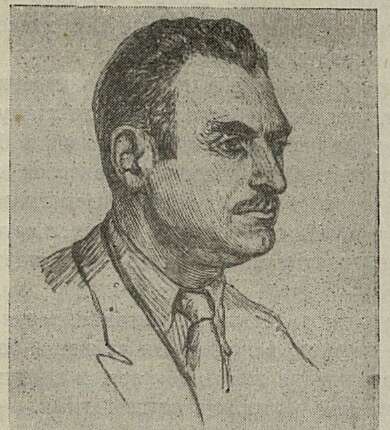
Мне хочется лишь решительно присоединить свой голос к тем, кто отстаивает лапидарность и простоту в искусстве.
Наша захватывающая эпоха, небывало бурное время, вызвала большую тягу к отражению жизни в формах простых и монументальных. Преобладает «крупный штрих» — художникам хочется единым всеохватывающим взором окинуть широчайшую панораму мыслей и дел народных.
Я восхищаюсь искусством Свиридова. С моей течки зрения, это искусство, с его подчеркнутой театрализованностью, ораториальностью, синтезом вокального и речевого начал, отвечает многим духовным потребностям современника. Я вижу в нем черты «социалистической античности», в которой уравновешены объективное и субъективное, драма, лирика и эпос.
Думается, что интересные художественные открытия, отвечающие духу нашего искусства, таит в себе жанр музыкально-драматических композиций. Большое театрализованное представление для широчайших народных масс, в котором найдется место и симфоническому потоку мысли; и проникновенной лирической кантилене, и вдохновенному слову оратора-чтеца, — вот о чем я мечтаю. Конечно, в основу такой композиции должен быть положен не просто эффектный «литературный первоисточник», а произведение, исполненное подлинной мощи национального духа, простое и великое.
У нас, грузин, — замечательная и разнообразная литература. И все же неслучайно мысли наши все вновь и вновь обращаются к Руставели, с. непревзойденной силой запечатлевшему патриотизм, дружбу, любовь и мужество нашего народа.
Вот почему для своей композиции я избрал «Витязя в тигровой шкуре». Это будет, по-видимому, крупное по форме произведение. Два его раздела составят как бы сдвоенную ораторию. Скажу точнее: ораторию-спектакль. Ибо каждый значительный персонаж (всего их пять) будет иметь двух исполнителей — певца и драматического актера.
Предвижу вопросы и сомнения: не слишком ли это монументально и потому не слишком ли статично? Что ж, понятие статики, как и понятие динамизма, не есть нечто догматическое, раз навсегда установленное. Недавно, например, в Грузии прошел республиканский пленум композиторов, на котором прозвучали очень разные произведения. И кто скажет, что в чудесных, истинно народных хорах оперы Ш. Мшвелидзе «Десница Великого мастера» меньше экспрессии и динамизма, чем в драматических «взрывчатых» эпизодах балета С. Цинцадзе «Демон»?!
Но, конечно, нельзя забывать об общих чертах стиля современной драматургии. Я представляю себе форму оратории-спектакля достаточно гибкой. Замкнутые, мелодически завершенные номера будут чередоваться в ней с речитативными сценами интермедийного плана; арии и ансамбли — с разговорными диалогами; оперно-симфонические принципы развития — с «кинематографическими». Так, например, в сцене чтения Тариэлем письма Дареджан «наплывом» будет дана ее ария. Особенно много размышлений и поисков требует в таком сочинении партия хора. Ему придется быть и «действующим лицом» происходящих событий, и, порой, их комментатором. Из числа больших хоровых сцен, играющих важную роль в развитии сюжета и, как мне кажется, динамичных, упомяну, например, «Охоту».
Главное же, от чего будет зависеть современность звучания оратории-спектакля, — это, разу
[ГОВОРЯТ] КОМПОЗИТОРЫ
меется, музыка. Мне хотелось воплотить в ней неповторимое своеобразие нашего национального мелоса в его современном звучании. Насколько это удалось — судить, конечно, не мне, а слушателям.
Из числа других своих работ упомяну о музыке к пьесе Г. Нахуцришвили «Пиросмани», поставленной на сцене Тбилисского драматического театра имени Руставели. Это пьеса о выдающемся грузинском художнике начала XX века, который был так беден, что не мог получить образования и рисовал даже на стенах провинциальных «духанчиков». Музыки в пьесе много. Помимо обычного «театрального сопровождения», в ней есть опереточная сценка, хорал и прочие самостоятельные музыкальные эпизоды.
...О планах говорить всегда трудно: по опыту знаешь, что в процессе работы от чего-то откажешься или найдешь нечто, не предусмотренное заранее. Вслед за «Витязем» буду работать над национальной оперой «Бахтриони». Намереваюсь писать хоры и романсы; этим жанрам, по-моему, уделяется все еще недостаточное внимание. И, конечно, как многие композиторы, мечтаю создать симфонию — инструментальное повествование о судьбе народа.
А. ТЕР-ТАТЕВОСЯН
— Наша эпоха, богатая значительными событиями, рождает у каждого художника множество замыслов. Часто случается так, что работаешь сразу над несколькими сочинениями. Но из них всегда одно — самое главное. Такой самой главной для меня сейчас является Третья симфония. Я задумал ее как программное сочинение, замысел которого можно определить тремя словами: революция — Ленин — партия. Три части — три музыкальных образа, причем один как бы рождается из другого (развитие основано на монотематическом принципе), а вместе они должны составлять неразрывное целое. Наиболее драматичной, конфликтной задумана первая часть. Во второй — лирико-драматической — я стремился показать не только Ленина-вождя, но и Ленина, о котором Маяковский так хорошо сказал: «...самый человечный человек». В третьей части мне хочется творчески поспорить с бытующей у нас порой традицией, по которой о самом главном в нашей жизни (особенно в финалах) говорится только в подчеркнуто приподнятом тоне. Я еще точно не знаю, что у меня получится, но, по-моему, в музыке здесь могут быть самые разнообразные оттенки чувств — и светлая лирика, и радость, и торжественность, и сверх всего — простота и человечность.
В симфонии есть одна необычная деталь: в нее введен чтец. Впрочем, слово «деталь» здесь не совсем подходит, поскольку чтецу я отвожу значительную роль. Он и комментатор, и участник происходящего, помогающий раскрыть более конкретно, зримо идею произведения. Текст, взятый мною из В. Маяковского и Е. Чаренца, весь идет на музыке. Каждое слово занимает точное место в партитуре. Поэтому от исполнителя потребуется большая ритмическая четкость и музыкальность.
Параллельно с Третьей симфонией я писал музыку к фильму «Две жизни» (по сценарию А. Каплера), который поставил режиссер Л. Луков. Я очень рад, что мне пришлось работать именно над этим фильмом: ведь он тоже рассказывает о событиях Октябрьской революции. В центре этого двухсерийного киноромана — судьба простого солдата, ставшего большевиком, активным участником борьбы за свободу, и судьба царского офицера, который, отвергнув революцию, потеряв родину, доживает свой век официантом в одном из парижских ресторанов.
Работа над фильмом помогла работе над симфонией, и наоборот. Особенно много дали
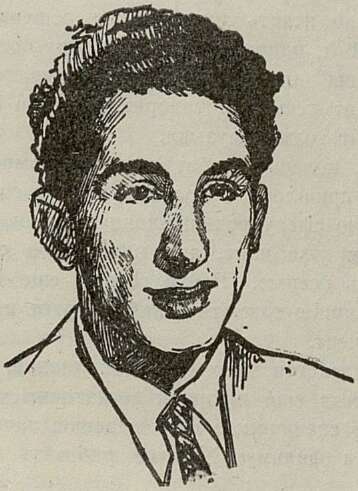
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Мечта, ставшая реальностью 5
- Новые стихи советских поэтов 10
- «Мальчики» 12
- Романтическая поэма 19
- Герои Важа Пшавела в опере 24
- Юность грузинской оперетты 28
- В поисках своего пути 31
- За круглым столом 35
- Композитор Алексей Головков 53
- Так ли нужно готовить смену? 57
- На экзаменах в Ленинграде 62
- Выпускники Киевской консерватории 63
- Театр и школа 66
- Реплика В. Щеглову 69
- Еще раз о «Рассвете» 71
- Новое о Рахманинове. Из эпистолярного архива 74
- Рахманинов в Грузии 80
- Заметки об «Этюдах-картинах» 81
- Бесплодный эксперимент 83
- Реставрация или творчество? 86
- Когда довлеют штампы… 90
- Марго Фонтейн 95
- Александр Грант 97
- Песни Забайкалья 100
- Мастер оперного театра 104
- «Если запоет школа — запоет вся страна» 110
- Азербайджанские заметки 114
- Только ли слушатели? 115
- Ближе к современности 118
- Спор американского и советского музыкантов 121
- Встречи со Стравинским 127
- Фестиваль в Загребе 129
- Даниель Лесюр 132
- Гарсиа Лорка — музыкант 134
- Пестрые страницы 137
- Учебник истории русской музыки 142
- Полезный труд 144
- Нотографические заметки 146
- Хроника 147



