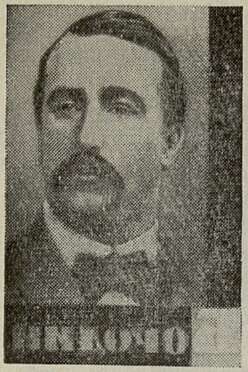
лиц — деятелей русской культуры середины и второй половины XIX века, а также крупных представителей зарубежной науки и искусства того времени. Среди них преобладают прогрессивно мыслящие люди, но встречаются лица, известные реакционностью своих научных, художественных и общественных позиций.
В книге подробно воссоздано, к тому же подтверждено документами, становление характера великого композитора. Сохор живо рисует обстановку, в которой протекало детство и отрочество будущего великого композитора. Очень хорошо обрисована мать композитора (здесь привлечены ранее не публиковавшиеся воспоминания Е. Бородиной). Полно и содержательно раскрыты студенческие годы Бородина, та трудная обстановка, в которой оказался он при поступлении в Военно-медицинскую академию. Сцены быта воспитанников академии, особенно неимущих, красочно переданы словами писателя Н. Успенского, бывшего «академиста» А. Спицына, брата композитора (по матери) Д. Александрова. В этих материалах освещены и демократические стремления студенчества, интерес к русской литературе, к социальным вопросам. Подчеркну, что все перечисленные выше источники впервые используются в биографии Бородина и существенно пополняют, освежают наши представления о нем. Обращают на себя внимание факты, говорящие о близости Бородина к лицам, принадлежавшим к окружению Добролюбова, Чернышевского и Герцена. В частности, эта связь устанавливалась через И. Сорокина, соученика (позднее и коллегу по академии) Бородина и одновременно близкого знакомого Добролюбова. Интересно и во многом свежо обрисована прогрессивная фигура Бородина — профессора академии, одного из создателей и руководителей Высших женских курсов, педагога-воспитателя, ученого. Здесь Сохором привлекается живой, красочный материал (воспоминания С. Боткина, А. Сталя, Л. Оболенского, А. Доброславина и других). Как частный, но показательный новый факт следует отметить сообщение об участии Бородина в работе журнала «Знание» (1870), печатавшего статьи социального и естественно-научного содержания, труды Ф. Бюхнера, Ч. Дарвина. Руководители журнала обращались даже к Карлу Марксу с просьбой сотрудничать в их издании. Нет ничего удивительного, что примерно через год он был закрыт царским правительством.
Тщательно прослежено формирование Бородина-музыканта. И здесь мы встречаем ранее не публиковавшиеся материалы (среди них, например, письма И. Гаврушкевича к В. Стасову, новые данные о первых фортепианных сочинениях, о замысле оперы «Василиса Микулишна»). Автор описывает музыкальную атмосферу, которая окружала композитора в детские и юношеские годы, в период заграничной командировки и позднее. Это помогает ему детально проследить созревание вкусов и музыкальных представлений, музыкально-теоретических знаний и практических композиторских навыков молодого Бородина, объяснить те или иные стороны его творчества различных периодов. В целом создается полная, уточненная в деталях история творческой жизни и деятельности композитора.
Первая часть книги завершается рассмотрением общественных воззрений Бородина. Здесь автор подчеркивает принадлежность Бородина к просветительскому движению 60-х годов. Естественным продолжением этого раздела книги служит вступление ко второй части, посвященное характеристике его эстетических взглядов. Читатель здесь не встретит каких-либо открытий, неожиданностей. Сохор суммирует уже сложившиеся в науке представления, особо подчеркивая при этом характерное для композитора стремление к жизненно-конкретному, полнокровному и вместе с тем логически обобщенному восприятию мира.
Большая удача автора то, что воззрения Бородина и его жизнь, вся его деятельность показаны как проявления гармоничной, целеустремленной, прогрессивной, благородной личности. Вступление же к первой части книги, названное «Личность», кажется лишним и даже разочаровывающим. Введение, где Сохор хотел нарисовать портрет Бородина-человека, рядом с основными главами книги совершенно бледнеет и стирается.
К наиболее весомым разделам книги относятся глава VI — «Идеи, образы, стиль» и заключение — «Историческое место Бородина». Они выделяются широтой идейно-эстетических, идейно-стилевых и исторических обобщений. Сохор выявляет индивидуальность композитора, специфические черты его творческого стиля, метода и его личный путь художника в рамках классического русского реализма XIX века. Выводы автора убедительны и целеустремленны. Главнейший из них — вывод о современной направленности искусства Бородина при обращении к исторической и легендарно-былинной тематике. На этом материале, как показывает Сохор, композитор выявляет коренные, устойчивые черты национального характера, воплощая собирательный положительный образ народа-героя, народа-богатыря, образ большой этической мощи и благородства. Вследствие того музыка внушала мысль, что такой народ достоин лучшей судьбы и лучших условий своего социального и исторического бытия, чем те, в которых он был вынужден постоянно пребывать в пореформенной России XIX века. Сохор дает ряд убедительных параллелей между Бородиным и другими представителями русского искусства минувшего столетия (Пушкин, Гоголь, Некрасов, Чехов, Васнецов, Глинка). Эти аналогии позволяют исследователю связать творчество Бородина с одной из важных идейных линий русской художественной культуры дореволюционной России. Интересны мысли Сохора о воплощении в лирике Бородина идеала гармоничной и цельной человеческой личности, о богатстве этой лирики — то более объективной, эпичной, то более индивидуализированной, романтичной. В основе мироощущения Бородина, как правильно замечает Сохор, лежит философский оптимизм.
В этой главе встречаются и отдельные спорные, противоречивые суждения. Справедливо подчеркивая, например, органическую связь Бородина с просветительством 60-х годов, Сохор впадает в заметное преувеличение, когда утверждает, что прототипами положительных героев Бородина были представители славного поколения шестидесятников (стр. 727). Такое утверждение противоречит суждению автора книги об обобщающем характере искус-
ства Бородина (обобщение исторически сложившихся черт народного характера), о том, что Бородин не принадлежал к числу радикальных представителей шестидесятничества и что ему не были близки наиболее крайние революционные тенденции крестьянских демократов (см. «Общественные воззрения»). Странным мне кажется и противопоставление Бородина Мусоргскому. Второго из них Сохор представляет безнадежным пессимистом, проявлявшим преимущественный интерес к «смутным временам», которые позволяли обрисовать облик народа-«страстотерпца», мятущегося в безнадежных поисках выхода из социальных конфликтов...» (стр. 702, 703).
Здесь явно смещены акценты, и это искажает облик великого современника и друга Бородина.
Интересно разработана Сохором проблема музыкального мышления Бородина (сочетание статики и динамики — при господстве статического начала), где Сохор развивает положения, сформулированные Ю. Келдышем в его труде «История русской музыки». Метко определены особенности интерпретации Бородиным народной музыки (удаление от первоисточника в целях более обобщающего, широкотипического воспроизведения национального стиля). В содержательном заключении поставлен вопрос о широте реалистического метода Бородина, о синтезе в его творчестве реализма со стилевыми чертами романтизма и классицизма. Бородин выступает здесь как крупная творческая личность в мировом музыкальном искусстве XIX века.
Все эти разделы мне представляются наиболее содержательными и ценными. В них отчетливо проявляются сильные стороны Сохора — музыковеда-историка, его уменье ставить исторические, музыкально-эстетические, стилевые проблемы, приходить к ясным и существенным обобщениям.
Много ценного заключено и в музыкально-аналитических главах книги. Здесь особый интерес вызывают материалы архива Бородина. На них целиком построен раздел об опере-оперетте «Богатыри», где впервые приведены обильные музыкальные материалы. Интересные новые сведения (и тоже с музыкальными публикациями!) даны о Третьей симфонии, возникшей, как оказалось, из замысла Третьего квартета. Богата новыми материалами и глава о «Князе Игоре» (самая лучшая, на мой взгляд, среди аналитических глав). Здесь впервые подробно проанализированы стасовский и бородинский варианты сценария оперы и выявлены различия между ними (у Стасова — историческая драма, у Бородина — историко-эпическая опера), приведены интереснейшие варианты различных сцен и фрагментов оперы (ариозо Ярославны, ее сцена с Галицким, ранний вариант темы «Половецкого марша» и другие).
Большое количество первоисточников использовано и в главе о ранних сочинениях Бородина. Здесь автор дает очень полную и стройную картину постепенного становления творческой личности и мастерства Бородина. Внимательно отмечены все отдельные штрихи, предвещающие будущее; попутно установлены авторы текстов ряда ранних романсов и авторы переводов романсов на слова Гейне (Л. Мей). Более обстоятельно в этой главе рассмотрены два сочинения: трио на тему «Чем тебя я огорчила» и Фортепианный квинтет. «Глинкианство» этих сочинений, как и появившиеся в них индивидуальные бородинские черты, выявлено полно и выпукло. Можно отметить лишь отдельные мелочи. Непонятно, почему в песне «Красавица-рыбачка» автор усматривает ритм баркаролы (точнее было бы говорить о жанре баркаролы): двухчетвертной размер, подчеркнутая синкопа в начальном построении, общий склад песни противоречат такому утверждению. Неясно также, почему Сохор находит в песне «Разлюбила красна девица» куплетную форму с припевом? Романс этот написан в четкой трехчастной форме с большим фортепианным вступлением. Почему-то содержание среднего раздела романса автор книги воспринимает как идиллию воспоминаний. В тексте — совсем иное: «Затуманились все радости, будто цветики завянули; ласки нежные, небесные словно камнем в воду канули». Какая же здесь идиллия? Кстати, Бородин подчеркнул в музыке — движением из мажора в минор и акцентами на последних словах — драматический смысл текста.
Содержательна глава о романсах зрелого периода. Хочется выделить анализ «Песни темного леса», «Морской царевны», «Спящей княжны», романсов на слова Гейне. Меньше удовлетворяет анализ «Моря». Здесь вовсе опущен вопрос о симфоничности произведения, о стихийном размахе музыки, о впечатляющей мощи этого произведения, которое, видимо, несколько недооценено исследователем. Сам анализ не отличается точностью: автор почему-то склонен видеть в романсе две темы моря, в то время как вторая («новая» по Сохору) есть всего лишь производное построение из основного материала. Определенная натяжка есть и в утверждении о том, что доминантовый органный пункт в эпизоде «Завидная выпала молодцу доля» применен Бородиным с целью подчеркнуть «непрочность мечты» героя. Думается, что здесь дело в другом — в динамике произведения, создаваемой, в частности, и гармоническими средствами: частой заменой тонической гармонии квартосекстаккордом (в разных эпизодах романса); стремлением создать известную непрерывность развития на основе энгармонизма доминанты ре бемоль мажора (звук ля бемоль) и основного тона главной тональности баллады (звук соль диез). Известные «вольности» в эстетических выводах автор допускает и в других случаях. Например, в «Спящей княжне». Не вызывает возражения общее понимание идейного содержания романса, толкование ладового контраста (увеличенного и диатонического ладов) как важного средства выявления образной антитезы (сказочная «нечисть» — богатырь-освободитель). Беда лишь в том, что исследователь склонен ставить Бородину «каждое лыко в строку», навязывая читателю свое программное толкование отдельного аккорда, того или иного гармонического хода. Вот примеры. Стоит появиться минорному трезвучию при словах «Ни души живой кругом» — и Сохор пишет: «Это — напоминание о несостоявшемся приходе «души живой» — богатыря» (стр. 402). Заметит он в коде романса сопоставление целотонной гаммы и тонического мажорного трезвучия — и сразу делает многозначительное обобщение: «Так Бородин напоминает здесь об основной образной антитезе романса (здесь надо было бы во всяком случае поставить точку. — А. К.), а вместе с тем и о том, что подлинное освобождение возможно, что оно уже однажды предстало перед нами в романсе, хотя и в виде мечты, а не реальности» (там же). Произвольное и прямолинейное истолкование музыки сказывается и в разборе песни «У людей то в дому». Вначале автор справедливо пишет о выборе композитором не драматического, а полушутливо-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 6
- Песня о Ленине 7
- На волне революции 15
- Воссоздавая облик поэта... 25
- Его музыка живет 31
- Волнующие документы эпохи 34
- Величайший мелодист XX века 43
- От эскизов — к оперному клавиру 57
- В работе над «Войной и миром» 61
- Высокое воздействие 65
- Оперы и балеты Прокофьева на сценах страны 68
- Из автобиографии 70
- Памяти друга 77
- Навстречу 50-летию Октября. — Рахманиновский цикл. — Ленинград: Месса Моцарта. — Чешский мастер. — Певец Парижа. — Из дневника концертной жизни. — Гости из-за рубежа 84
- Песни-баллады 95
- В отрыве от практики 102
- Нужна координация 105
- И петь, и слушать 107
- Больше внимания методике 109
- Разговор продолжается 111
- Новое в музыкальном воспитании 114
- Юным скрипачам 122
- Вприпрыжку, « У памятника», «Летнее утро» 123
- Хальфдан Хьерульф и его песни 125
- «Альфеланд», «В горах» 130
- Из опыта друзей 133
- Встречи на острове Свободы 139
- У нас в гостях 141
- Талантливое исследование 142
- Первая монография 144
- Обо всем понемногу 148
- Нотография 150
- Хроника 152



