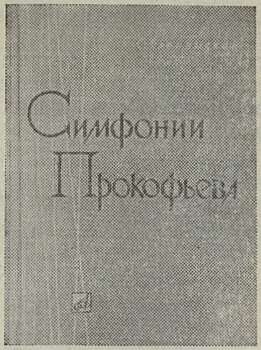
вой основе мелодики и гармонии Прокофьева. Здесь подробно обоснована важная мысль о ладовой многосоставности музыки композитора (она уже высказывалась прежде автором в его статье, опубликованной в сборнике «Черты стиля С. Прокофьева»). Отмечу интересное замечание о сочетании в этой музыке «прадиатоники» (то есть малообъемных диатонических ладовых систем) и «постдиатоники» (то есть двенадцатиступенной неальтерационной системы). Вопрос сам по себе не новый — наиболее подробно до сих пор он исследовался в трудах Ю. Холопова, однако Слонимский вносит в него ряд существенных уточнений.
Так, правильно отмечено, что «наряду с монотоникальными ладовыми объединениями для тематизма Прокофьева характерна и ладотональная переменность, возникающая в результате взаимодействия двух тональностей, свободного перемещения тоники» (стр. 170–171). Это наблюдение может способствовать успешному анализу тех новых советских сочинений, для которых характерны тональная рассредоточенность лада без четкой тональной централизации, прихотливые и неожиданные смены устоев, происходящие, однако, в рамках единой двенадцатиступенной системы. В подобных случаях лад и тональность сохраняются, но принимают иные, более сложные и гибкие формы. Жаль, правда, что положение о ладовых системах с множественностью устоев — их можно назвать политоникальными, многоустойными в отличие от монотоникальных, централизованных — в работе Слонимского лишь постулировано.
Можно было бы еще очень много сказать о тонких наблюдениях, интересных исследовательских находках, щедрой рукой рассыпанных на страницах книги. Но, пожалуй, особо выделяется в ней отличный анализ оркестрового стиля, отражающий живое ощущение композитора-практика (известно ведь, что в высшей степени ценно, когда композиторская деятельность гармонично сочетается и с деятельностью научной). У нас часто сетуют, что современная теория уделяет мало внимания средствам оркестра. Книга Слонимского в этом отношении представляет счастливое исключение. К сказанному автором в принципе нечего прибавить. Автор отметил и полифоническое строение многоплановой оркестровой структуры, и оправданное содержанием нарушение «норм равновесия» звучности, и роль тембрового раздробления мелодии, и специфические взаимоотношения групп оркестра и отдельных инструментов, и колоритные «регистровые разрывы» голосов и т. д. По моему твердому убеждению, дальнейшее изучение оркестрового стиля Прокофьева, его тембровой драматургии не может идти помимо мыслей, изложенных в книге Слонимского.
Монография посвящена сложным проблемам современной музыки. К тому же это первая работа о симфониях Прокофьева. Естественно, что она не могла исчерпать всех проблем, связанных с ними, да вряд ли и сам автор ставил перед собой подобную задачу. Он был вправе выделить те вопросы, которые считает наиболее интересными и которые особенно близки его художественным вкусам и стремлениям. Есть здесь и спорные положения, по которым могут быть высказаны иные точки зрения.
Считаю необходимым кратко перечислить то, что в труде Слонимского, на мой взгляд, осталось нерешенным.
Одна из его ведущих мыслей заключается в утверждении эпической природы симфонизма Прокофьева 1 (исключение — лишь Первая и Седьмая симфонии). В разработке и обосновании этой мысли, в суждениях о приметах нового современного эпоса много правильного. Но все-таки возникает ряд существенных вопросов, на которые не всегда можно найти четкий ответ. Прежде всего, всякая ли повествовательность в музыке представляет проявление эпического начала. Автор, по сути, отождествляет понятия эпического и повествовательного. Во всяком случае их разграничения нигде нет. Но если даже и так — правильно ли относить Вторую, Третью и Четвертую преимущественно к категории эпического симфонизма? Несмотря на все оговорки, сделанные Слонимским, это не убеждает.
Разумеется, всем ясна огромная роль эпического начала в музыке Прокофьева, в частности в Пятой симфонии. Но, может быть, стоит более осторожно говорить о его чертах в ранних сочинениях этого жанра. Я не ощущаю, например, в Третьей симфонии признаков эпического сказа (стр. 66). Во всяком случае не они определяют жанровую направленность этого произведения.
Кратким анализам симфоний Прокофьева посвящена в монографии Слонимского отдельная глава, которую сам автор называет «циклом более или менее развернутых аналитических аннотаций» (стр. 4). В последних много метких наблюдений, живых образных характеристик, удачных параллелей с музыкой других композиторов. Все же лаконизм изложения, к чему явно тяготеет исследователь, кажется здесь чрезмерным.
Почти совсем не рассматривается общественно-историческая обстановка, в которой работал художник. Оказалось вне поля зрения Слонимского и много интересных творческих проблем, связанных с отдельными сочинениями, а ведь увлекательно было бы поставить вопрос о слиянии «классического» и современного в Первой симфонии, проанализировать истоки ее тематизма («Классической симфонии» вообще «не повезло» — ее характеристика сжата до крайности). Интересен и вопрос о единстве цикла Второй симфонии. Мне лично кажется, что ее части столь различны по содержанию и языку, что вполне цельной концепции все же не возникает.
Гораздо подробнее можно было бы обрисовать связи Третьей симфонии с оперой «Огненный ангел» или Четвертой симфонии — с балетом «Блудный сын». Впрочем, автор это сам сознает, отмечая (в сноске на стр. 66), что сравнительный анализ этих сочинений — предмет специального исследования.
Чтобы пояснить, насколько важен этот вопрос, приведу один показательный пример. В монографии неоднократно говорится о характерном политональном сочетании возбужденной пульсации остинато и мерной поступи хорала в начале Третьей симфонии.
_________
1 Подробнее всего об этом говорится в первой главе «Эпический симфонизм Прокофьева», стр. 9–39.
Верно указывается при этом, что «остинато “отчаяния и заклинания” верхних голосов разительно перечит грозному хоралу-остинато!» (стр. 181). Но если обратиться к опере «Огненный ангел», то станет ясным происхождение этого эффекта. Дело в том, что музыка остинато выражает отчаяние Ренаты, преследуемой злыми духами, тогда как тема хорала — это молитва на латинский текст, которую произносит Рупрехт, стремящийся успокоить Ренату. Резкое противопоставление двух чужеродных сфер и подчеркнуто в опере политональностью: конкретная сценическая ситуация повлияла на музыкальное решение. Конечно, в симфонии эта музыка приобрела новые качества. И было бы интересно показать, как преломляется материал оперы в рамках самостоятельной симфонической концепции1.
Могут быть, естественно, и расхождения с автором книги в оценках отдельных симфоний, в образных характеристиках их тематизма. Признаюсь, я не ощутил в скерцо Пятой симфонии «пародирования низкопробной развязности модных эстрадных “шлягеров”» (стр. 25), а также «жестокого натиска механизированных полчищ агрессора» (стр. 26). Точно так же я не чувствую во второй теме заключительной партии первой части Пятой симфонии «скороговорочно-частушечной “прибаутки“» (стр. 87). Эта тема связывается у меня с образом «остережения», и в кажущемся столь прихотливым движении струнных мне видится большая собранность, внутренняя сила. Все эти разногласия, конечно, идут от различий в субьективном восприятии музыки, без которого немыслимы вообще суждения об искусстве.
Более подробного освещения требуют и некоторые теоретические положения Слонимского. У автора выработался индивидуальный стиль изложения — скупой, предельно лаконичный. Веришь, что он мог бы написать гораздо больше, но намеренно себя ограничил. Такой метод имеет свои преимущества — он заставляет думать читателя, дополнять и конкретизировать высказанные идеи. Но в некоторых случаях следует об этом пожалеть.
Приведу один пример. Поясняя свое понимание двенадцатиступенной системы, Слонимский справедливо акцентирует следующую ее особенность: «Соединения трезвучий и их обращение в этой двадцатичетырехвидовой системе 2 поистине неисчислимы, ибо каждое трезвучие — минорное или мажорное — может быть соединено с любым другим аккордом» (стр. 152, 153). Далее подчеркивается: «По сути дела, в любой тональности может быть построен любой аккорд и соединен с любым другим аккордом» (стр. 156). Но, спрашивается, как и на каком основании в подобном случае возникают какие-либо тяготения созвучий, устои и неустои лада? Каков механизм образования ладотональной организации в условиях двенадцатиступенной системы? Обойтись здесь без постановки проблемы ритма в широком значении этого понятия невозможно. Отмечу, что ритму в монографии вообще уделяется весьма мало внимания, а автор ограничился лишь частными, хотя и меткими наблюдениями. Излишне пояснять, однако, насколько важна эта проблема для творчества Прокофьева и для современной музыки в целом.
Серьезное изучение стиля Прокофьева, в том числе и его симфоний, по существу еще только начинается. Отчасти и поэтому мне хотелось указать на те вопросы, которые мало или недостаточно убедительно развиты в талантливой книге Слонимского и решение которых потребует еще работы последующих исследователей.
А. Кандинский
Первая монография
Серия «Классики мировой музыкальной культуры» пополнилась книгой об Александре Порфирьевиче Бородине, написанной А. Сохором. Это первая капитальная монография, посвященная великому русскому композитору. Автор задумал «дать по возможности наиболее широкую картину жизни, деятельности и творчества композитора, поставив ряд актуальных для советской музыкальной культуры проблем, и прежде всего проблему эпоса в музыке и воплощения этического идеала» (стр. 7).
Мне представляется, что эту задачу Сохор в целом выполнил и во многом выполнил хорошо.
Книга построена на огромном фактическом материале, в том числе извлеченном из архивов, периодических, специальных и ряда других изданий, ранее не привлекавшихся исследователями.
Монография состоит из двух больших частей: описание жизни и деятельности Бородина и анализ его творческого наследия, характеристика эстетических взглядов; центральное место в книге занимает рассмотрение произведений Бородина: камерной музыки добалакиревского периода, симфонических сочинений и, наконец, оперы.
Полно освещен жизненный путь композитора, его научная, педагогическая, общественная деятельность... Рассказ о Бородине ведется на широком общественном фоне, и удивительная личность Бородина, многообразие его интересов и занятий сами предопределяют объемность картины. На страницах книги появляется множество широко известных
_________
1 Среди других интересных вопросов, не затронутых в монографии Слонимского, можно указать на проблемы позднего стиля Прокофьева, с характерной для него стабилизацией творческих приемов.
2 Речь идет о двадцатичетырехвидовой системе, поскольку предполагается, что на каждой из двенадцати ступеней может быть построено два трезвучия (мажорное и минорное).
А. Сохор. Александр Порфирьевич Бородин. М.—Л., «Музыка», 1965, 820 стр., тираж 6530 экз.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 6
- Песня о Ленине 7
- На волне революции 15
- Воссоздавая облик поэта... 25
- Его музыка живет 31
- Волнующие документы эпохи 34
- Величайший мелодист XX века 43
- От эскизов — к оперному клавиру 57
- В работе над «Войной и миром» 61
- Высокое воздействие 65
- Оперы и балеты Прокофьева на сценах страны 68
- Из автобиографии 70
- Памяти друга 77
- Навстречу 50-летию Октября. — Рахманиновский цикл. — Ленинград: Месса Моцарта. — Чешский мастер. — Певец Парижа. — Из дневника концертной жизни. — Гости из-за рубежа 84
- Песни-баллады 95
- В отрыве от практики 102
- Нужна координация 105
- И петь, и слушать 107
- Больше внимания методике 109
- Разговор продолжается 111
- Новое в музыкальном воспитании 114
- Юным скрипачам 122
- Вприпрыжку, « У памятника», «Летнее утро» 123
- Хальфдан Хьерульф и его песни 125
- «Альфеланд», «В горах» 130
- Из опыта друзей 133
- Встречи на острове Свободы 139
- У нас в гостях 141
- Талантливое исследование 142
- Первая монография 144
- Обо всем понемногу 148
- Нотография 150
- Хроника 152



