траурный марш трактовался как обобщенный, лаконичный образ, сливающийся позднее воедино с лейттемой Родины, то в первой части Шестой, особенно в ее разработке, траурное начало раскрывается как почти реальная звуковая картина приближающегося погребального шествия (подобно, скажем, эпизоду из Одиннадцатой симфонии Шостаковича).
Драматургически действенное проникновение тревожных импульсов в лирическую сферу наглядно видно в среднем, «пленерном» эпизоде Largo, где эффект эхо искусно используется композитором для воссоздания атмосферы военной тревоги (грозный хор медных).
Такие яркие изобразительные картины, несомненно, рассчитаны на непосредственное и острое эмоциональное воздействие своей «зримой» реалистичностью. Они свойственны современному лирико-драматическому симфонизму, широко использующему экспрессивные приемы и характер образности смежных искусств — театра и кино.
Отличие Шестой симфонии от своей предшественницы заключено и в общем антагонистическом противопоставлении двух контрастных интонационных сфер во всем цикле: протяженной, распевной лирики, с одной стороны (главная и побочная партии первой части, первая тема второй части, кода финала), и злой, жестокой остинатной маршевости — с другой (вступление, связующая и заключительная партии, тема эпизода в разработке, средний раздел второй части, «наплыв» в финале) 1.
Все это не значит, что в Шестой симфонии ослабла (по сравнению с Пятой) собственно лирико-психологическая линия. Пусть не так обильно, как другие композиторы, но Прокофьев именно здесь, в частности, использует характерные речитативные монологи духовых (валторна, фагот в финальном «наплыве» и перед ним). Такой прием инструментальных монологов, так же как и эффект создания массовых картин (баталии и похороны), близок специфике театральной драматургии.
Даны в Шестой симфонии и замечательные примеры внутреннего «идейно-эмоционального переосмысления» образа.
Мы слышим его в третьей части, когда «реализует» свои агрессивные качества квартовая попевка главной темы, а лирическая вторая тема перед средним эпизодом трансформируется в суровое маршевое движение, а затем в батальную картину. Аналогичную роль в финале играет «испанистый» эпизод, развивающийся от обычного для Прокофьева «карнавального» темпераментного танца в первом проведении к драматическому третьему проведению, где жанровая танцевальность неожиданно оборачивается грозным и устрашающим ликом. Такая метаморфоза оказалась возможной прежде всего за счет экспрессивности танцевального лейтритма. Поясним это.
Мотив «испанского» танца ритмически близок к основной теме финала — свирельному наигрышу. Это дает композитору возможность «закружить» оба мотива вместе в контрапунктическом движении, постепенно «искажая» беззаботный характер, постепенно приближая его к экспрессивной батальной сфере. Естественно возникает (после третьей репризы) драматический наплыв образов первой части. Отметим, что лейтритм темы-наигрыша, предусмотрительно данный ранее «крупным планом» (ударные), уже в экспозиции органично переходит в свою противоположность — в тревожную пульсацию валторн... Так создается своеобразный тип полирефренного динамического рондо с вынесением главной кульминации всей симфонии в драматическую коду-наплыв. И эта кульминация, выросшая на скрещении трагедийно-батальных образов, звучит публицистично — как страстный призыв, обращение к людям.
*
В «военных» симфониях Прокофьева мы сталкиваемся с объемной сферой жизненных явлений — обширным не только идейно-эмоциональным, но и «предметным» миром действительности.
Образы войны запечатлены:
— в звуковых картинах боя, военных сигналах, импульсивных ритмах (Шестая симфония), в подчеркнуто механическом движении различных маршей;
— в погребальных шествиях, обобщенном жанре funebre как образе смерти, зловещем спутнике войны;
— в различных жанровых обобщениях народного горя (плач, причет, набат);
— в зловеще гротесковых интонационных, «хамелеонах-оборотнях»;
— в грозных, суровых, аскетичных звукорядах, ведущих свою «родословную», от целотонных, и подобных последовательностей, издавна характеризовавших антигуманистическое, антижизненное начало;
_________
1 Близость к принципам современного Прокофьеву лирико-драматического симфонизма отчетливо видна уже в экспозиции первой части. Мягкая диатоника главной и побочной партий противопоставлена тревожному вступлению с его зловещим и хлестким, как удары бича, martellato нисходящих духовых (две трубы с сурдиной, одна без сурдины, потом тромбоны). Экспозиция, особенно первой темы, довольно объемна и во второй своей части разработочна. Это обусловлено и тем, что сама главная тема «двухчастна»: вначале нежно-повествовательный трехтакт и затем более энергичная заключительная половина.
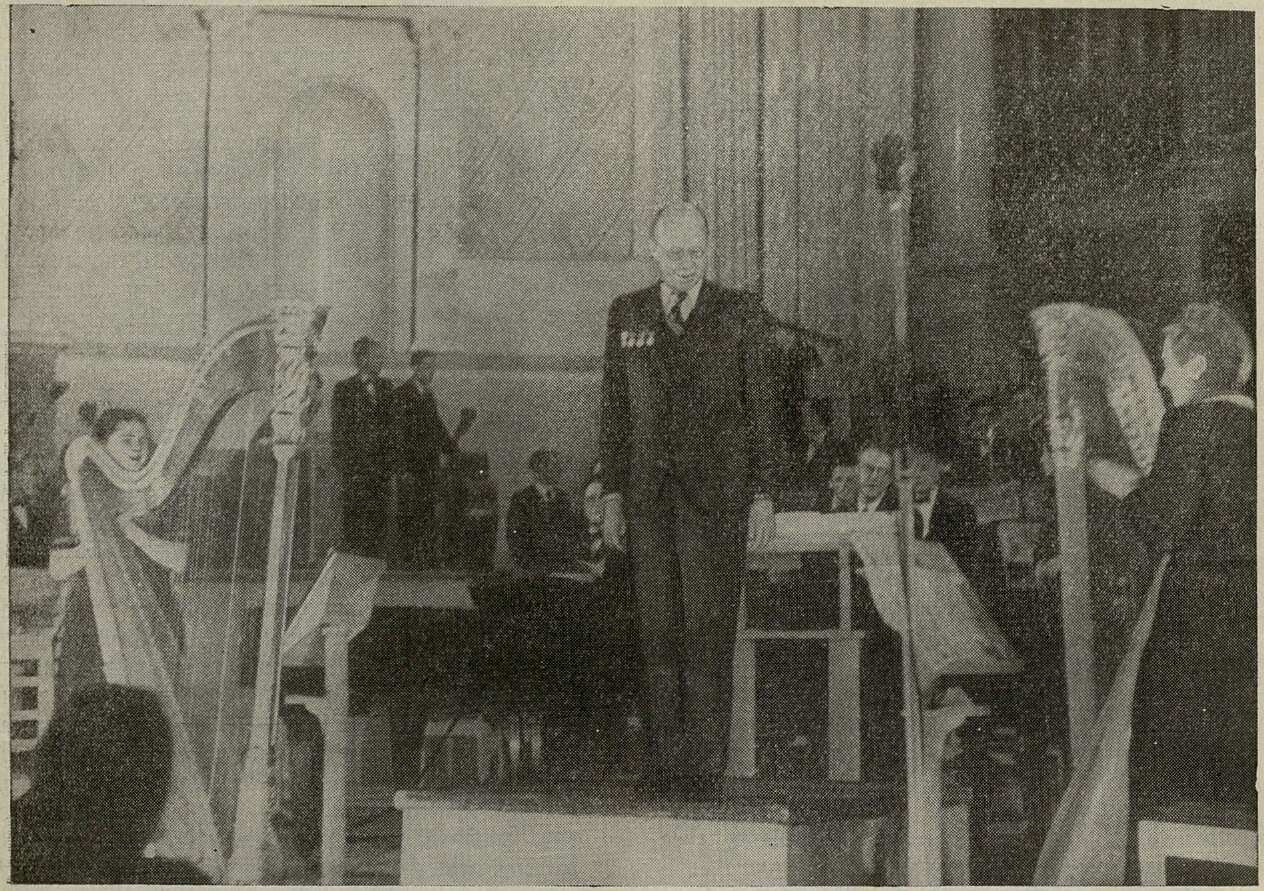
Премьера «Оды на окончание войны».
Концертный зал им. Чайковского. 1945 год
— в общей «злой фонике», обретающей порой конкретно жанровое звучание (жесткое «органное» обрамление второй части Шестой симфонии).
Образы мира, позитивного, истинно человечного начала, воплощающие патриотические, лирические, возвышенные чувства, запечатлены:
— в эпических темах, отражающих силу и славу земли русской;
— в разнообразных жанрово-мелодических пластах, вдохновленных любовной лирикой, видами родной природы и т. д. (ноктюрн, серенада — в Пятой, лирическая песнь-кода в первой части Шестой симфонии, пейзажный наигрыш, эффект эхо и т. д.);
— в светлых сказочно-фантастических фрагментах;
— в зажигательной танцевальности, веселом карнавальном движении;
— наконец, в том, что можно бы назвать активным размышлением, — в речитативных инструментальных монологах, и кратких «авторских» репликах-присловьях, и экспрессивных кличах-призывах.
Таковы далеко не все образные элементы, определяющие контрастное, а порой конфликтное развитие двух симфоний военного времени Прокофьева. Уже одна широта, жизненная емкость их убедительно свидетельствуют о глубине реализма этой музыки, ее прочных связях с действительностью, ее эстетической многоплановости.
В различном удельном весе данных элементов и заключено своеобразие двух замечательных сочинений.
Но сперва скажем о том, что их связывает и прежде всего — об особенностях прокофьевского симфонического мелодизма.
Вдохновенный мелодический дар композитора никогда не изменял ему. Может быть, поэтому он и не прибегал к ухищрениям конструкции за счет выразительности тематизма; может быть, поэтому он и сохранял значение деталей сонатной схемы — роль связующих и заключительных партий, различ-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 6
- Песня о Ленине 7
- На волне революции 15
- Воссоздавая облик поэта... 25
- Его музыка живет 31
- Волнующие документы эпохи 34
- Величайший мелодист XX века 43
- От эскизов — к оперному клавиру 57
- В работе над «Войной и миром» 61
- Высокое воздействие 65
- Оперы и балеты Прокофьева на сценах страны 68
- Из автобиографии 70
- Памяти друга 77
- Навстречу 50-летию Октября. — Рахманиновский цикл. — Ленинград: Месса Моцарта. — Чешский мастер. — Певец Парижа. — Из дневника концертной жизни. — Гости из-за рубежа 84
- Песни-баллады 95
- В отрыве от практики 102
- Нужна координация 105
- И петь, и слушать 107
- Больше внимания методике 109
- Разговор продолжается 111
- Новое в музыкальном воспитании 114
- Юным скрипачам 122
- Вприпрыжку, « У памятника», «Летнее утро» 123
- Хальфдан Хьерульф и его песни 125
- «Альфеланд», «В горах» 130
- Из опыта друзей 133
- Встречи на острове Свободы 139
- У нас в гостях 141
- Талантливое исследование 142
- Первая монография 144
- Обо всем понемногу 148
- Нотография 150
- Хроника 152



