шанного хора), изданной ГИЗом в Москве в 1918 году, обозначено: «торжественно». То же «торжественно» — «maestoso» — закреплено и в монументальной обработке «Интернационала» Д. Шостаковичем для большого симфонического оркестра и хора (Музгиз, 1937).
Поучительно было бы исследовать, как по-разному звучал «Интернационал» в отдельных местностях дооктябрьской России в соответствии с теми или иными национальными условиями. Характерен, например, опыт народных казахских певцов, которые в большинстве случаев творчески перерабатывали мелодии революционных песен, переведенных на родной язык, приближая их к особенностям своего фольклора. Так было и с «Марсельезой», популярной в Казахстане еще в 1905 году, и с песней «Смело, товарищи, в ногу», переведенной в 1915 году ссыльными большевиками — членами северной (казахстанской) подпольной группы РСДРП, и с «Интернационалом»1. Публикуя в своем сборнике «1000 песен» местный вариант «Марсельезы», бытовавшей под названием «Уран», А. Затаевич сопровождал его примечанием: «Вот образчик того, как опростилась и во что превратилась «Марсельеза», пущенная в степь...». С равным основанием он мог бы отнести эти слова и к своеобразному звучанию «Интернационала», также «пущенному в степь» еще до октября 1917 года. Но уместно ли говорить здесь об опрощении? Думается, что речь должна идти о другом — о весьма важном процессе освоения революционной песни в специфических национальных условиях. Приближение сложной и непривычной для казаха тех лет мелодии к интонациям народной музыки способствовало распространению песни, ее боевому звучанию в степях и аулах и тем самым было одухотворено высокой, полностью себя оправдавшей целью.
Следы народной «корректуры» сказались и на тексте «Интернационала». И не только в припеве гимна, где Октябрь 1917 года переменил будущее время на настоящее. Публикуя в 1907 году свой перевод в сборнике «Песни пролетариев», А. Коц заменил утверждающую интонацию последних строк: «Для нас все так же солнце станет сиять огнем своих лучей!» — на вопросительную: «Так разве солнце перестанет...» и т. д. Народ не принял этой поправки (ведь непроизвольно для поэта сама постановка вопроса как бы позволяла усомниться в незыблемости грозной силы рабочего гимна) и пел по-прежнему. Это убедило автора, и в позднейших публикациях он вернулся к исходной редакции.
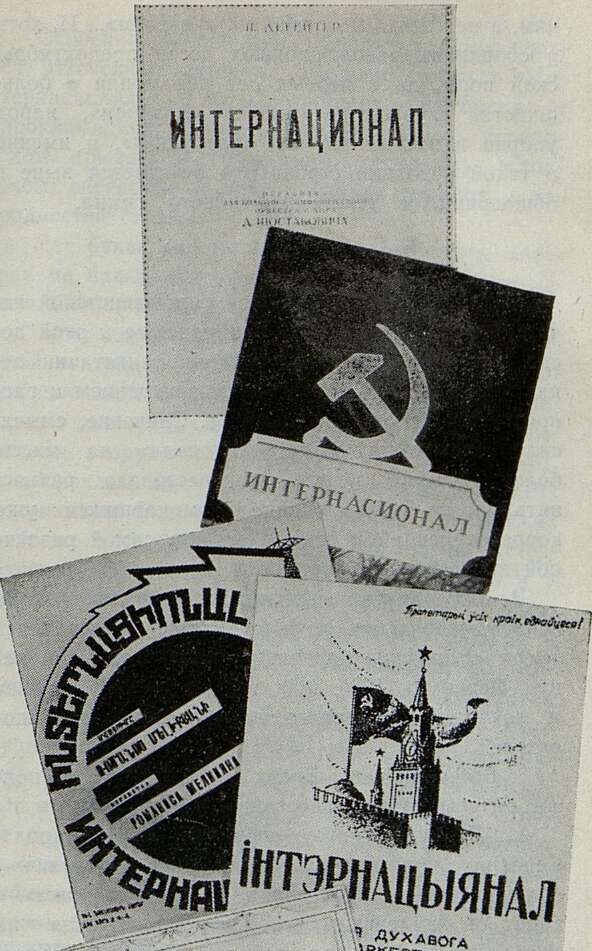
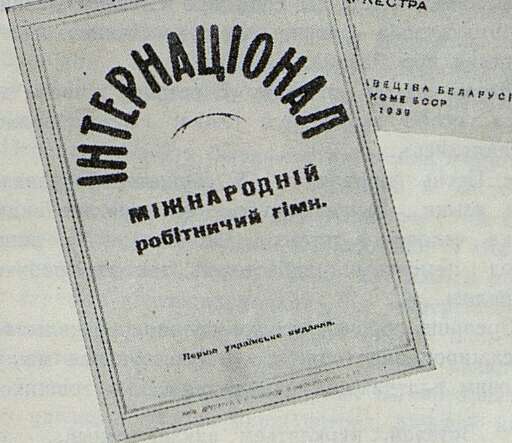
Характерному изменению подверглась и строка: «Весь мир насилья мы разроем...». Сознательно жертвуя совершенной рифмой (смысл дороже!), народ заменил глагол «разроем» программно-точным «разрушим», то есть до конца покон-
_________
1 Об этом, в частности, рассказывает в очерке о революционных песнях в Казахстане Б. Сарыбаев (см. Советский Казахстан», 1957 г., № 11).
чим, а не только потревожим, «разроем»... И, хотя в сборниках революционных песен предоктябрьской поры, да и первых лет революции в большинстве случаев печаталось «разроем», народ упорно и настойчиво пел «разрушим», и именно в такой редакции строка эта печатается ныне в общепринятом тексте партийного гимна.
4
Пропаганда дооктябрьской большевистской печатью «Интернационала» и обращение к этой песне как к средству революционной агитации отнюдь не ограничивались одним печатанием и распространением ее текста и нот. Значение, смысл, силу воздействия «Интернационала» на массы большевистская печать не переставала разъяснять — и не только в виде упоминавшихся уже корреспонденций и статей, но и в самой различной литературной форме.
В ряду других газетных материалов эпохи первой революции особый интерес представляет очерк «Волжские картинки», напечатанный в канун Первомая 1906 года в саратовской «Волне» и почему-то не привлекший внимание исследователей.
... Весенний день. Вверх по Волге тяжело ползет битком набитый пассажирами пароход.
«... Внизу на корме собралось много народа. Середину занимает слепой Иван Федорович — волжский певец. «Ой, полна, полна коробушка», — тянет он жиденьким тенорком, подыгрывая на гармонике... «Нет, ты спой про Стеньку Разина, вот это песнь!» — просит старик-крестьянин. Льются песни про Разина...»
Затем слепец запевает: «В старину живали деды...», особо акцентируя слова: «Без дворянов управлялись».
«...Песнь понравилась. У слушателей развязались языки... Выше Вольска на кургане видна кучка, человек в пятьсот. Что это? — Да, вишь, завод цементный забастовал, так это рабочие собрались...».
Зрелище рабочей сходки словно раскалывает пассажиров парохода: «... Сочувствующие машут рабочим платками, купцы ругают забастовщиков.
Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов! —
слышится с берега песнь рабочих. Вот она сила! Было время — теперь другое. И прошлое и настоящее трудное, тяжелое. Были в прошлом Стеньки Разины, и есть в настоящем — пролетариат! Растет его сознательность и крепнет организованность! А с берега несется:
Никто не даст нам избавленья...
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой!..1
Широкий круг ассоциаций и далеко идущие выводы рождал рассказ «Концерт», напечатанный в июне 1906 года в недолговечной легальной большевистской газете «Северная земля» с подзаголовком «очерк» (не потому ли, что в его основе лежал реальный факт?).
...Один из городов южной Франции. В нарядном концертном зале, заполненном богатой публикой, выступает модный пианист. До зала доносятся отзвуки рабочей демонстрации, «дышащие торжеством и надеждой» слова «Интернационала» о близящемся последнем и решительном бое. «...Гневной молнией прорезали эти слова душную атмосферу зала... Песнь звучала как предостережение. Чувствовалось, что неизбежно разразится гроза, и звуки, падавшие подобно ударам молота, были ее первым предвозвестником...».
С волнением вслушивается в звуки «Интернационала» и заласканный славой артист. Сын рабочего, он вспоминает свой жизненный путь: от прозябания в подвале до вершин успеха, когда счастливый, редкостный случай неожиданно помог ему «выбиться в люди», стать музыкантом. «Дышавшие гневом и местью слова народной песни» заставляют его осознать пустоту своей спокойной жизни, вою глубину падения таланта, отданного «на потеху сытых людей». 0н возвращается к роялю и начинает импровизацию, стараясь передать в ней музыку борьбы, музыку народного восстания: «...Мощная, ликующая мелодия его гимна свободе сливалась сю звуками "Интернационала", волнами вливавшегося в раскрытые окна зала...». А нарядным слушателям «страшны были и те угрюмые люди, певшие за окнами с горевшими ненавистью глазами, и этот артист, чья импровизация так гармонировала с пламенными словами народной песни... И вся волна могучих звуков отдалась в их ушах зловещим гулом погр.ебальных колоколов»2.
Нельзя не оценить принципиального значения самой попытки (насколько нам известно, первой) отразить, пусть и в несовершенной литературной форме, размышления беспартийного художника, отказывающегося от иллюзий «чистого» искусства:
_________
1 И. Г. Волжские картинки. «Волна» (Саратов), 23 апреля 1906 г., № 5. Цитируя слова гимна, легальная газета, естественно, вынуждена была опустить совсем уже крамольную строку с упоминанием царя.
2 Н. Колецкая. Концерт. «Северная земля» (Петербург) от 27 июня–10 июля 1906 г., № 4.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- 1. Приветствие ЦК КПСС Третьему Всесоюзному съезду композиторов СССР 5
- 2. Соловьев-Седой В., Ошанин Л. "Песня ровесников" 10
- 3. События и люди 12
- 4. Рябчиков Е. Душа народа 14
- 5. Сурков А. Окопная быль 27
- 6. Шток И. А песня живет! 29
- 7. Головинский Г. С любовью к человеку 32
- 8. Тифтикиди Н. Устремленный вперед 39
- 9. Шахназарова Н. Итоги и перспективы 43
- 10. Мильман М. Страницы бакинского дневника 50
- 11. Коваль М. Творческая зрелость 52
- 12. Мазель Л. К дискуссии о современной гармонии 56
- 13. Дрейден Сим. "Интернационал" в России 66
- 14. Бернандт Гр. Герцен и музыка 81
- 15. Лауреат Ленинской премии 1962 года за концертно-исполнительскую деятельность Эмиль Гилельс 89
- 16. Лемешев С. Умный талант 91
- 17. Максакова М. Путь к искусству 95
- 18. Локшин Д. Выдающийся деятель хорового искусства 103
- 19. Шантырь Г. Госоркестру - 25 лет 106
- 20. Поляновский Георгий. Хоры и ансамбли 107
- 21. Фихтенгольц М. Е. Гилельс и Л. Коган 109
- 22. Дельсон В. Музыка Метнера 109
- 23. Яунзем Ирма. Л. Мельникова 110
- 24. Доброхотов Б. Второе рождение серенады Глинки 110
- 25. Смирнова И. Дирижер из ГДР 111
- 26. Кубинская гостья 112
- 27. Благой Д. Герхардт Пухельт 112
- 28. Ражева В. Путешествие за песней 113
- 29. Маринин З. Дальневосточные заметки 118
- 30. Катонова С. На село придут музыканты 122
- 31. Васина-Гроссман В. Из блокнота кинолюбителя 125
- 32. Готлиб А. Когда телезритель становится телеслушателем 128
- 33. Пичугин П. Эйтор Вилла-Лобос 131
- 34. Письма из-за рубежа 139
- 35. Шнеерсон Г. Песни борьбы и освобождения 142
- 36. Поступили в продажу пластинки 144
- 37. В смешном ладу 145
- 38. Кац С., Доризо Н., Матусовский М., Фатьянов А. Дискуссия о песне. Музыкальная шутка 146
- 39. В смешном ладу. Лирическая песня 148
- 40. В смешном ладу 149
- 41. Баранова А. Лист и твист 150
- 42. На московском собрании 151
- 43. Михайлов Б. Музыка, рожденная подвигом 153
- 44. Кук Е. Музыка, рожденная подвигом 154
- 45. Самсонова Т. Музыка, рожденная подвигом 154
- 46. Холодков А. Праздник-конкурс 155
- 47. Александров Ан., Ивенсен М. "Поезд дружбы" 156
- 48. С. Б. "Здравствуй, весна" 158
- 49. Хайруллина З. Главная тема 159
- 50. Гольденштейн М. "Рассказы о пионерах" 160
- 51. Пионерский ансамбль 160
- 52. Макарова Н. Говорят женщины-музыканты 161
- 53. Жубанова Г. Говорят женщины-музыканты 161
- 54. Амиранашвили М. Говорят женщины-музыканты 161
- 55. Сергей Агабабов 162
- 56. Ю. Ст. Н. Чистова - Параша 163
- 57. Орловский И., Ваховский Г. Коми республиканский музыкально-драматический театр 164
- 58. По следам одного письма 164
- 59. Лесс Ал. Тысяча фотографий Шаляпина 165
- 60. Новый вуз 166



