лет «Эпизоды», скомпанованный из нескольких партитур Антона Веберна... Хореография всюду сочинена и поставлена самим Баланчиным. На музыку Айвза — родоначальника американского атонализма — представлено несколько бессвязных полумистических сцен, чем-то напоминающих символистские фантасмагории Метерлинка: мрачным ночным видениям с копошащимися в темноте, странно извивающимися телами — противопоставлена скерцозная жанровая сценка в американском кабачке... Столь же затуманено содержание «Эпизодов», где хореограф стремился найти пластический эквивалент «пуантилистской» музыке Веберна: лишь к концу представления, там, где веберновские бредовые опусы сменяются оркестровой транскрипцией Ричеркара Баха — в хореографии наступает некое прояснение: на смену абсолютно условным движениям приходит совершенно реальный эпизод молитвы — коленопреклоненные фигуры с воздетыми к небу руками должны символизировать христианское смирение и покорность. Так вычурный модерн неожиданно оборачивается архаизированной церковщиной.
И наконец совсем уж абстрактным оказался законченный несколько лет тому назад (впервые поставлен в 1957 году) балет «Агон» Игоря Стравинского (сплав умозрительного серийного комбинаторства с условной стилизацией старинных танцевальных ритмов). Здесь балетмейстер и осветитель (да, именно осветитель, а не художник!) полностью вытравили какие-либо элементы естественного театрального действия. Все абсолютно бессюжетно, сведено к скучноватым, геометрически выверенным «хореографическим чертежам».
Рядом с этим вымученно-серийным балетом более ранние опусы Стравинского — «Черный концерт» (в стиле рафинированного джаза) и ослепительная по яркости «Жар-птица» показались каким-то откровением. Оригинальное зрелище представлено в «Черном концерте», где остроумная музыка, пронизанная ритмами американского джаза, сочетается с причудливой игрой черных и белых тонов. Особенно же выиграл на фоне всего виденного нами ранний балет Сергея Прокофьева «Блудный сын» (восстановленный по дягилевской постановке 1929 года в буйно красочных декорациях Жоржа Руо). В противовес чахлой вычурности, мы с удовлетворением встретили здесь живую экспрессию драматических сцен, мягкий лиризм, вполне сюжетную танцевальность, в какой-то степени предвосхищавшую сочную жизненность «Ромео и Джульетты». Да, Прокофьев даже в этом несовершенном и пестром сочинении оказался намного здоровее, человечнее, эмоциональнее своих многочисленных западных современников!
Гордостью Соединенных Штатов по справедливости считаются прославленные симфонические оркестры: Бостонский, Филадельфииский, Нью-йоркский, Чикагский, Кливлендский, Национальный оркестр в Вашингтоне. Есть много самодеятельных симфонических и духовых оркестров в Вузах и средних школах. Есть временные летние оркестры, играющие на открытом воздухе в громадных зеленых амфитеатрах. Нам показали в Вашингтоне репетицию детского оркестра, составленного из 12–14-летних учеников и учениц нескольких средних школ: здесь был представлен полный комплект инструментов, и ребятишки очень старательно, с явным удовольствием разыгрывали Неоконченную симфонию Шуберта и одну из моцартовских увертюр.
Официальная статистика американского симфонического дела оперирует сногсшибательными цифрами: считается, что в стране функционирует 1142 оркестра, т. е. более половины всех оркестров, имеющихся на земном шаре. Большинство из них сравнительно молодо: только 100 оркестров существует с 1920-х годов и 10 оркестров организовались ранее 1900 года. Но статистика ничего не говорит о материальных затруднениях большинства филармонических оркестров, которые буквально задыхаются без необходимой государственной поддержки. Слушателям приходится платить огромные деньги за билеты, но и эти поступления лишь на 40–50% покрывают расту-

Шарль Мюнш
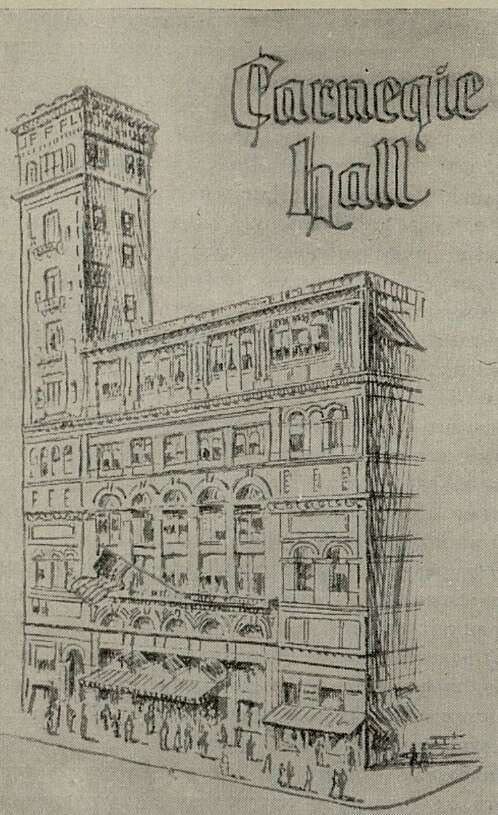

щие расходы. В музыкальных журналах много пишут о печальной бедности, столь непонятной для искусства богатейшей капиталистической страны. При этом иронически ссылаются на то, что даже самые бедные европейские страны, подкармливаемые за счет американской «экономической помощи» (например, Турция), тратятся на свою культуру много щедрее1.
Нам было очень интересно вновь встретиться в Бостоне с чудесным оркестром Шарля Мюнша, когда-то гастролировавшим в Москве. Старый французский мастер, которому осенью исполняется 70 лет, по-прежнему радует олимпийской ясностью и строгостью мысли, сдержанностью и внутренней напряженностью эмоций. Симфония Франка под его управлением прозвучала на редкость рельефно и выразительно. Два других произведения, включенные в программу, были менее увлекательны: забытый скрипичный концерт Шумана, найденный в архиве (солист — скрипач Генрик Шеринг) и балетная музыка Мийо «Сотворение мира» (1923 г.), основанная на эксцентрическом обыгрывании ритмоинтонаций негритянского джаза. Оркестр, выпестованный когда-то еще Сергеем Кусевицким и насчитывающий в своем составе немало выходцев из России, хранит высокие исполнительские качества — гибкость звуковых градаций, мастерство солистов, отличный ансамбль. Концерт был «выездной» — в одном из помещений Гарвардского университета, — это обеспечило хорошую, живо реагирующую студенческую аудиторию, составляющую ныне основную опору для развития серьезной музыки в США. После концерта было приятно посетить артистическую и пожать руку Шарлю Мюншу за его превосходное искусство. Старый музыкант импонирует изяществом манер и мягкой приветливостью, но как-то огорчает его безумно усталый и грустный облик...
В Вашингтоне нам привелось познакомиться с Национальным симфоническим оркестром США. Он выступает в одном из самых солидных залов столицы — величественном Зале Конституции. Здесь в партере можно встретить крупнейших государственных чиновников, а на спинках кресел выгравированы имена наиболее именитых пожертвователей, не пожалевших денег на поддержание филармонического дела.
Из печатной программы мы узнали, что оркестром ведает целая благотворительная организация, насчитывающая не менее пятисот уважаемых граждан — от самого Дуайта Эйзенхауэра до хозяев фирмы «Пепси-кола». Громадный меценатский актив, собранный вокруг столичного оркестра, делится на несколько категорий — поручителей, пожертвователей, покровителей и соучастников. Я не взялся бы расшифровать разницу между этими категориями, но ясно одно: даже американскому «Госоркестру», видимо, приходится строить свою деятельность на щедрости «добрых людей»!
Вашингтонский коллектив и его главный дирижер Говард Митчелл, как мне показалось, не возвышаются над уровнем вполне корректного исполнения — здесь уже нет того высокого артистизма и безукоризненной отчеканенности деталей, которые так поражают в искусстве Бостонского и Филадельфийского оркестров. Ни «Болеро» Равеля, ни d-moll'ный концерт Моцарта (сыгранный пианисткой Верой Франчески) не оставили глубокого следа в памяти. Зато запомнились изящно, со вкусом исполненные пьесы английских композиторов: симфонические вариации «Энигма» («Загадка») Эдварда Эльгара и очаровательный импрессионистский пейзаж Фреде-
_________
1 Ряд фактов о серьезных затруднениях американских симфонических оркестров приведен, например, в статье конгрессмена Гарриса Мак-Доуэлла, напечатанной в одном из последних номеров журнала «Music journal».
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Правдиво отражать нашу современность 7
- Двенадцать страниц 22
- Ново, талантливо 29
- Катанян В. Хор из оперы «Не только любовь» 35
- Пярт и Тормис пишут для хора 46
- А. С. Аренский 49
- Аренский в оценке Л. Толстого 56
- Г. Катуар 58
- Боевой пролетарский гимн 60
- Режиссер в оперном театре 70
- Лермонтов на балетной сцене 77
- «Хачатур Абовян» 80
- Дмитрий Башкиров 83
- Роза Джаманова 85
- Работать по-новому! 87
- Играет Иосиф Гофман 90
- Татьяна Николаева 94
- На концерте М. Юдиной 95
- Пьесы для арфы 96
- Концерт в заводском Доме культуры 97
- Новое в народном оркестре 98
- Вива, Куба! 98
- Бетховен, Метнер 99
- Оскар Данон 100
- Кантаты Танеева и Римского-Корсакова 100
- «Virtuosi di Roma» 101
- Д. и И. Ойстрахи 102
- Иржи Ропек 103
- Хуго Лепнурм 104
- Зарубежные вокалисты 104
- Самуил Фурер 105
- Шведский квартет 105
- Квартетисты Грузии 106
- Музыкальный Львов 110
- Пленум в Сибири 115
- На Дальнем Востоке 117
- Пасынки книжной торговли 118
- Средствами киноискусства 120
- Американские заметки 122
- Две недели в Париже 132
- Итальянские впечатления 139
- «Петя и волк» получает золотую медаль 141
- Пестрые страницы 142
- Сборник о Кастальском 146
- Книга о Шимановской 148
- По следам наших выступлений 150
- В предсъездовскую весну 151
- «Капитан дальнего плавания» 151
- По мотивам Ярослава Гашека 153
- Встреча с друзьями 155
- Москва салютовала песнями 156
- Выступают ростовчане 158
- Из блокнота фотокорреспондента 159
- В музыкальных театрах. Москва, Ленинград, Тбилиси, Одесса, Оренбург 161
- В канун двадцатилетия 162
- В. Васильев — Лукаш 163
- В оперном театре строителей 164
- Цифры и факты «Музыкальной весны» 164



