ными архитектурными ансамблями, чарующими красками, шумной жизнью улиц и площадей.
Наше пребывание в столице Франции совпало с полетом в Космос Юрия Гагарина. В течение нескольких дней Париж жил этим событием. С первых полос всех французских газет на нас глядели портреты советского героя, материалы о его полете, о триумфальной встрече Гагарина в Москве заполняли несколько страниц во всех газетах и журналах. Одна артистка балета театра Grand Opera объявила себя... кузиной Юрия Гагарина. А один из бывших князей Гагариных дал обширное интервью, из которого выяснилось, что, несмотря на все поиски по генеалогическому дереву, ему не удалось установить принадлежность сына смоленского колхозника к княжескому роду. Князь был явно этим огорчен...
Знакомство с музыкальным Парижем мы начали с посещения Национальной консерватории. Во главе этого учреждения, основанного в 1784 году под названием «Королевская школа пения и декламации» и реорганизованного в 1795 году в Национальную консерваторию музыки, стояли в свое время такие композиторы, как Керубини, Обер, Тома, Форе, Дюпре.
С 1956 года директором консерватории является крупный композитор и педагог Раймонд Лушер, уделивший нам много времени и дружеского внимания. Он рассказал о принципах работы консерватории, а затем предоставил нам возможность посетить классы и ознакомиться с методикой преподавания отдельных дисциплин. Прежде, чем пригласить нас пройти в избранные нами классы, Р. Лушер со свойственным ему мягким юмором сказал: «Следуйте за мной, но по возможности с закрытыми глазами». Он имел в виду крайне неприглядный внешний вид большинства помещений консерватории, занимающей старое, плохо приспособленное здание, уже давно требующее капитального ремонта и переоборудования. Единственная в стране государственная консерватория, пользующаяся мировой известностью, располагает всего лишь двадцатью четырьмя классами. Поэтому расписание занятий составлено предельно уплотненно, ряд педагогов вынужден заниматься со студентами у себя на дому.
Мы были в консерватории трижды. Переходя из класса в класс, познакомились с учениками пианиста Пьера Сакана, композиторов Тони Обена и Жоржа Югона, дирижера Луи Фурестье. В оперном классе мы услышали ряд талантливых молодых вокалистов, которые спели среди других произведений арии из опер русских композиторов (в том числе монолог Бориса по-русски), а также отличное исполнение сцены Альмавивы и Фигаро из «Севильского цирюльника» Россини.
В классе П. Сакана нас порадовала прекрасная игра 16-летнего Помье, исполнившего с тонким пониманием стиля ми-мажорнуго сонату Гайдна и Третью сонату Прокофьева. Еще одно произведение советского автора прозвучало под пальцами 19-летнего пианиста Берноса — Вторая соната Кабалевского. Зрелым музыкантом показала себя студентка Сили, исполнившая «Триану» Альбениса и Токкату Равеля.
Самое благоприятное впечатление оставило знакомство со студенческим симфоническим оркестром и студентами-дирижерами. Оркестр отличается превосходной художественной дисциплиной, точностью интонаций, полновесным и выразительным звучанием струнной и деревянной групп. Приятно было наблюдать, с каким горячим увлечением этот юный коллектив, примерно половину которого составляют девушки, играл Первую симфонию Брамса. Дирижировал ярко одаренный
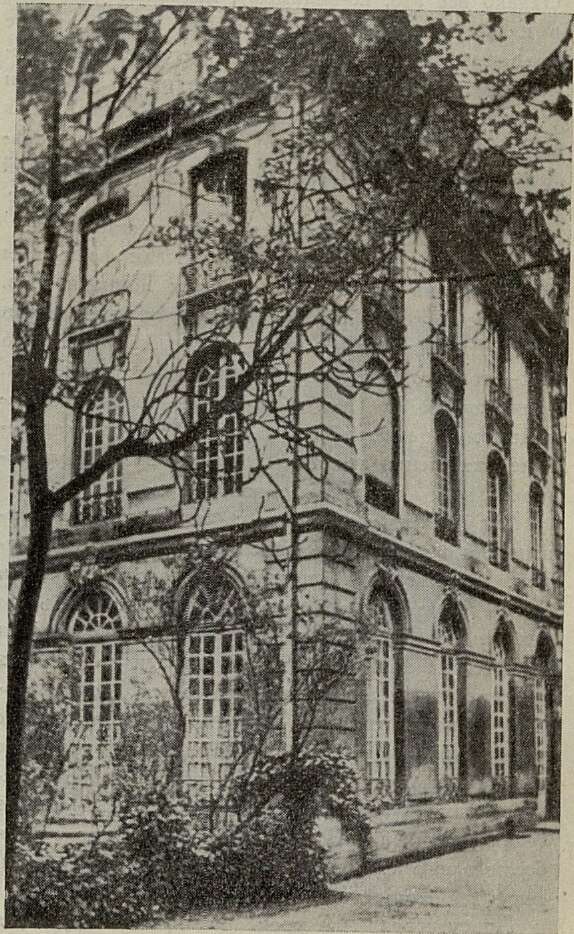
Здание Schola cantorum
юноша из Израиля по фамилии Имбаль. Его сменил другой студент — Борис Виноградов, также многообещающий дирижер.
С большим интересом мы знакомились с постановкой композиторского образования в Парижской консерватории, давшей миру столько известных музыкантов. Классами композиции здесь руководят Дариус Мийо, Тони Обен и Оливье Мессиан. Мийо делит свое время между Калифорнийским университетом и Парижской консерваторией: год он преподает в США, год у себя на родине. В этом году маститый композитор обучает американских студентов.
В консерватории очень солидно поставлено преподавание гармонии и так называемого аккомпанемента (чтение на фортепьяно хоровых и симфонических партитур, гармонизация с листа заданной мелодии, импровизация по цифрованному басу, гармонический анализ и т. д.). Студенты по классу гармонии Ж. Югона продемонстрировали творческое владение искусством гармонизации. Однако все это, по-видимому, подлежит забвению в классе свободной композиции, где некоторые молодые композиторы как бы щеголяли друг перед другом далеко не гармоническими приемами письма, с трудом поддающимися анализу. Идея Шёнберга об «эмансипации диссонанса» представляет, очевидно, опасность для композиторским молодежи Запада, следующей ложной доктрине о том, что новая гармония — это дисгармония.
В классе Тони Обена мы слышали фрагменты из сочинений нескольких молодых композиторов. Профессор делал но ходу прослушивания очень содержательные и точные замечания. Однако его — тонкого знатока гармонии и композитора, сочиняющего тональную музыку, — нисколько, по-видимому, не коробили нарочитые дисгармонические ухищрения некоторых учеников, не гнушающихся порой и додекафонной техники.
Мы столкнулись здесь с явлением, характерным для многих современных композиторов Франции, в том числе педагогов консерватории и Schola cantorum: это чрезмерная терпимость по отношению ко всем «ищущим», вне зависимости от того, на каких путях ведутся эти поиски. Из бесед с нашими новыми друзьями, композиторами и педагогами, мы узнали, что сами они не пользуются и решительно отвергают «серийные методы» композиции. Но бороться против распространения этих вредных методов, отваживать своих учеников и младших коллег от увлечения бессмысленной «музыкой для глаз» они не считают возможным.
Присутствуя на уроке полифонии Даниеля Лесюра в Schola cantorum, мы не могли не восхищаться мастерством педагога, разбиравшего задания, выполненные студентами. Начиная от сравнительно простых задач, — например, написать верхний голос к данному басу, педагог переходил ко все более сложным полифоническим остроениям — трех-четырех-пятиголосным. Все работы написаны в старинных ключах. Проигрывая эти небольшие сочинения на рояле, Лесюр попутно комментировал каждую удачу, указывал на ошибки в голосоведении, скрытые параллелизмы, перечения. Все это проходило в хорошей творческой атмосфере, замечания профессора были проникнуты дружелюбием и типично французским юмором. Маленькая, но характерная подробность: за каждый пропущенный по рассеянности диез или бемоль студент должен опустить монетку в стоящую на рояле глиняную копилку-черепашку. Такова традиция. В конце учебного года копилка разбивается и скопленные деньги прокучиваются в ближайшем кафе всем классом во главе с директором Schola. При нас двое студентов под веселые возгласы товарищей были вынуждены опустить штрафные монетки в протянутую Лесюром копилку.
Некоторые из услышанных нами студенческих работ свидетельствовали о значительном полифоническом мастерстве их авторов. Впрочем, это не удивительно, если вспомнить особый «полифонический уклон» знаменитой школы на улице Сен-Жак, верно хранящей традиции своего основателя и директора — Венсана д’Энди.
Schola cantorum была основана в 1896 году учениками Цезаря Франка Шарлем Бордом и Венсаном д’Энди и органистом Александром Гильманом. Первоначально это был педагогический центр хоровой и церковной музыки. Однако с годами профиль школы менялся и в настоящее время она представляет собой хорошо поставленное высшее музыкальное учебное заведение, по праву гордящееся сильными классами композиции, сольного и хорового пения, фортепьяно, органа и оркестровых инструментов. При школе имеется класс драматического искусства и танца, а также ведется курс для тонмейстеров радио, телевидения и грамзаписи.
Школа ищет новые методы преподавания. Живой интерес представляет опыт класса композиции, который совместно ведут Даниель Лесюр и Пьер Висмер. Это, собственно, не класс в обычном понимании. Это скорей студия, или, как они сами себя называют, «ателье композиции», где под руководством Лесюра и Висмера обсуждаются сочинения студентов, ведутся свободные дискуссии, к участию в которых систематически привлекаются крупные композиторы — Жорж
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Правдиво отражать нашу современность 7
- Двенадцать страниц 22
- Ново, талантливо 29
- Катанян В. Хор из оперы «Не только любовь» 35
- Пярт и Тормис пишут для хора 46
- А. С. Аренский 49
- Аренский в оценке Л. Толстого 56
- Г. Катуар 58
- Боевой пролетарский гимн 60
- Режиссер в оперном театре 70
- Лермонтов на балетной сцене 77
- «Хачатур Абовян» 80
- Дмитрий Башкиров 83
- Роза Джаманова 85
- Работать по-новому! 87
- Играет Иосиф Гофман 90
- Татьяна Николаева 94
- На концерте М. Юдиной 95
- Пьесы для арфы 96
- Концерт в заводском Доме культуры 97
- Новое в народном оркестре 98
- Вива, Куба! 98
- Бетховен, Метнер 99
- Оскар Данон 100
- Кантаты Танеева и Римского-Корсакова 100
- «Virtuosi di Roma» 101
- Д. и И. Ойстрахи 102
- Иржи Ропек 103
- Хуго Лепнурм 104
- Зарубежные вокалисты 104
- Самуил Фурер 105
- Шведский квартет 105
- Квартетисты Грузии 106
- Музыкальный Львов 110
- Пленум в Сибири 115
- На Дальнем Востоке 117
- Пасынки книжной торговли 118
- Средствами киноискусства 120
- Американские заметки 122
- Две недели в Париже 132
- Итальянские впечатления 139
- «Петя и волк» получает золотую медаль 141
- Пестрые страницы 142
- Сборник о Кастальском 146
- Книга о Шимановской 148
- По следам наших выступлений 150
- В предсъездовскую весну 151
- «Капитан дальнего плавания» 151
- По мотивам Ярослава Гашека 153
- Встреча с друзьями 155
- Москва салютовала песнями 156
- Выступают ростовчане 158
- Из блокнота фотокорреспондента 159
- В музыкальных театрах. Москва, Ленинград, Тбилиси, Одесса, Оренбург 161
- В канун двадцатилетия 162
- В. Васильев — Лукаш 163
- В оперном театре строителей 164
- Цифры и факты «Музыкальной весны» 164



