Мстислав Ростропович
В своих программах М. Ростропович неизменно обращается к творчеству И. С. Баха, к новым сочинениям советских авторов. Его исполнительское мастерство нередко побуждает композиторов писать для виолончели. Только за последнее время артист впервые исполнил Концертино С. Прокофьева, пять пьес Ю. Шапорина, Концерт М. Вайнберга, Сонату Б. Чайковского. Много внимания уделяет он камерному жанру, в частности классическим и современным сонатам для виолончели и фортепьяно. М. Ростропович избрал путь концертной трактовки камерной музыки (вспомним, что «Крейцеровой сонате» Бетховен предпослал ремарку: «в концертном стиле»). Благодаря этому даже сложные и углубленные произведения в его исполнении делаются доступными широким кругам слушателей. Подобный характер интерпретации проявляется прежде всего в «укрупненном плане» передачи, в динамичной насыщенности фразировки, в богатстве оттенков. М. Ростропович отказывается от принятой в камерном музицировании игры по нотам: артист, не «отгораживаясь» от публики нотным пультом, обращается к ней более непосредственно, становится как бы ближе к своим слушателям.
В исполнении Сонаты фа минор Брамса ярко были переданы смены романтически-взволнованных и созерцательных настроений. При сохраняющейся широте «дыхания» смычка М. Ростроповича звук его виолончели стал значительно теплей и проникновенней, а соединение «позиций» естественней и пластичней. Высоким мастерством отмечены штрихи (например, труднейший вибрационный штрих на двух струнах в первой части Сонаты), приобретающие у М. Ростроповича важное выразительное значение. Отличным партнером проявил себя в Сонате Брамса А. Дедюхин.
В Сонате Б. Чайковского темпераментному исполнению виолончелиста не соответствовала холодная, несколько формальная трактовка фортепьянной партии автором. Возможно, более эмоциональная игра пианиста могла бы смягчить некоторую рационалистичность музыки.
Исполнение Шестой виолончельной сюиты И. С. Баха отличалось большой глубиной и художественностью. С тонким чувством меры были подчеркнуты контрасты между частями. В Прелюдии привлекло мастерское выявление «скрытой» полифонии. Импровизационности Аллеманды противостояла ритмическая четкость Куранты, сосредоточенности Сарабанды — грация и изящество Гавотов. В Жиге отлично слышно было голосоведение, несмотря на сложность исполнения полифонической ткани на виолончели. Быть может, несколько большее различие в характере интерпретации Гавотов и Жиги усилило бы впечатление.
С особым интересом были приняты публикой произведения современного бразильского композитора Гейтора Вилла-Лобоса, впервые у нас исполняемые. Очарование его «Бразильских Бахиан» (в названии и форме этих пьес автор выражает свое уважение к Баху) заключено в их народности, в тесной связи с бразильским фольклором. Пылкая напевность и богатая мелодика, ароматность гармонии, ритмическая острота, сочетание танцевальных ритмов с импровизационностью — все способствует успеху музыки. Наибольшее впечатление в «Бразильской Бахнане» № 1 произвела окаймленная яркой и темпераментной Интродукцией и финальной четырехголосной Фугой своеобразная Ария, по-южному эмоциональная, отличающаяся благородством мелодической линии. Эту часть Ростропович «спел» с искренним, теплым чувством.
Красочно звучал виолончельный ансамбль в исполнении учеников М. Ростроповича — Е. Альтмана, А. Васильевой, В. Апарцева, С. Апалина, Л. Евграфова, А. Есипова и В. Кудрейко (к богатым выразительным возможностям многоголосного виолончельного ансамбля хотелось бы привлечь внимание советских композиторов!).
В Арии из «Бразильской Бахианы» № 5 к инструментальному ансамблю присоединился поразительный по красоте тембра, «кантабильности» и выразительности голос Галины Вишневской. В упоительной кантилене трогательный лирический вокализ сливался с партией первой виолончели на фоне «гитарного» аккомпанемента ансамбля. В средней части Арии сила драматической экспрессии достигла высшей точки и буквально захватила слушателей. Артисты бисировали Арию.
Лев Гинзбург
Пианисты
Маргарита Федорова (Малый зал консерватории, 15 марта) — хорошая пианистка. Она играет культурно, музыкально, темпераментно, технически свободно. Ничто в ее интерпретации Чайковского (Соната соль мажор), Рахманинова (Элегия и три этюда-картины), Скрябина (Четвертая соната) и Прокофьева (четыре пьесы соч. 4 и Третья соната) не вызывает возражений, упреков. Но уровень пианистической культуры в нашей стране так высок, что требуется нечто большее, чтобы выделиться из длинного ряда искусных и даровитых советских пианистов. В игре М. Федоровой этого большего пока что не чувствуется; разве только в пьесах Прокофьева, и прежде всего в «Наваждении», блеснуло что-то более индивидуальное, запоминающееся.

Е. Малинин
Рис. Б. Тедерса
Гораздо ярче художественный облик другого молодого пианиста — Евгения Малинина (Большой зал консерватории, 20 марта). Его игре, помимо мастерства, присуще незаурядное поэтическое обаяние. В исполненных им (в сопровождении оркестра Московской филармонии под управлением Ю. Силантьева) концертах Грига, Листа (ми бемоль мажор) и Рахманинова (до минор) многое прозвучало красиво и вдохновенно, в особенности в рахманиновском Концерте. Я не могу согласиться с Ю. Коревым, упрекнувшим Малинина в «пренебрежении к кантилене» 1: мне кажется, наоборот, что пианист хорошо чувствует и передает прелесть мелодической фразы. Звук его, в forte несколько сухой и резкий, в лирических эпизодах piano и pianissimo обретает высокие качества, начинает словно светиться изнутри. Справедливым зато представляется мне другое замечание того же критика, посетовавшего на склонность Е. Малинина к чересчур частым «замираниям». Действительно, артист нередко злоупотребляет этим приемом, который таким путем приобретает характер «эффекта», сентиментального штампа. Талантливому пианисту следовало бы задуматься над известными словами Антона Рубинштейна, специально предостерегавшего молодых исполнителей от опасности подобного уклона.
*
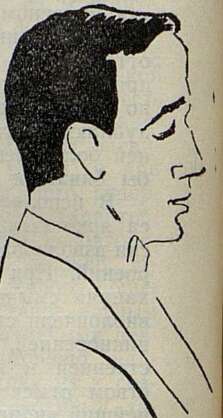
П. Кэтин
Рис. Ф. Лейн
Совсем еще молод и английский пианист Питер Кэтин, впервые выступающий в Советском Союзе (Малый зал консерватории, 18 марта). Это исполнитель серьезного, «академического» склада (в хорошем, а не плохом смысле этого слова), подкупающий прежде всего взыскательным, на редкость «чистым» отношением к своему художественному долгу. Его безупречная «честность», с которой выполняется всё, стоящее в нотах, внушает такое же уважение, как и скромность, чуждающаяся всего показного, дающая дорогу виртуозности только там и в той мере, в какой этого требует музыка. «Случайностей» в этой игре не услышишь: все обдумано, отточено до предела и вместе с тем остается живым по мысли, по интонации.
Все эти достоинства Кэтина наиболее выпукло проявились в замечательной интерпретации «Хроматической фантазии и фуги» Баха. Почти на том же уровне стояло исполнение Сонаты Бетховена соч. 109, хотя мне не совсем по душе слишком «разъясняющая» трактовка первой части, введенная Шнабелем и воспринятая от него многими современными зарубежными пианистами (включая исключительно одаренного Гульда). Та же тенденция чувствовалась в интересном истолковании си-минорной Сонаты Листа; пианистическое же воплощение замысла исполнителя отличалось рельефностью и виртуозным блеском. Хорошо были сыграны две сонаты Скарлатти (ре минор и ми мажор); только кое-где в ре-минорной (как и в теме финальных вариаций бетховенской Сонаты) хотелось бы более совершенного legato. Сравнительно меньшее впечатление оставило исполнение «Бергамской сюиты» Дебюсси.
Пианист имел большой успех. Из многих пьес, сыгранных им сверх программы, отметим превосходное исполнение ре-бемоль-мажорного Ноктюрна Шопена и одной из «Испанских зарисовок» Жака Ибера — «Маленький белый ослик».
Бекар
_________
1 См. «Советская музыка», 1958 г. № 3.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 3
- Воспитание композиторской молодежи 5
- Встречи с литовской музыкой 10
- Есенинский цикл Г. Свиридова 17
- К 70-летию Анатолия Александрова 22
- Праздник скрипичного искусства 27
- Говорят члены жюри 32
- Итоги Международного конкурса пианистов 38
- В поисках героической темы 39
- О нашем современнике 47
- Югославский цикл С. Фейнберга 51
- Что должно дать хоровое общество 56
- О подготовке хоровых дирижеров 60
- Вокальная лирика Брамса 64
- Скрябин и русский симфонизм 75
- Из прошлого советской песни 84
- «Спартак» на сцене Большого театра 90
- Новое рождение «Михася Подгорного» 98
- Заметки о периферийных оркестрах 101
- Мой сын Фу Цун 104
- Из концертных залов 107
- Обязанности и права Киевской филармонии 121
- Из Керчи в Вологду 125
- В уральском городе 127
- Письмо из Новосибирска 129
- Благородный почин английских музыкантов 131
- Музыка без публики 133
- Английские впечатления 139
- Композиторы нового Китая 145
- Письмо из Парижа 154
- Американская книга о Рахманинове 156
- Критические статьи Р. Шумана 159
- Хоровое пение в русской школе 162
- Нотографические заметки 163
- Хроника 168



