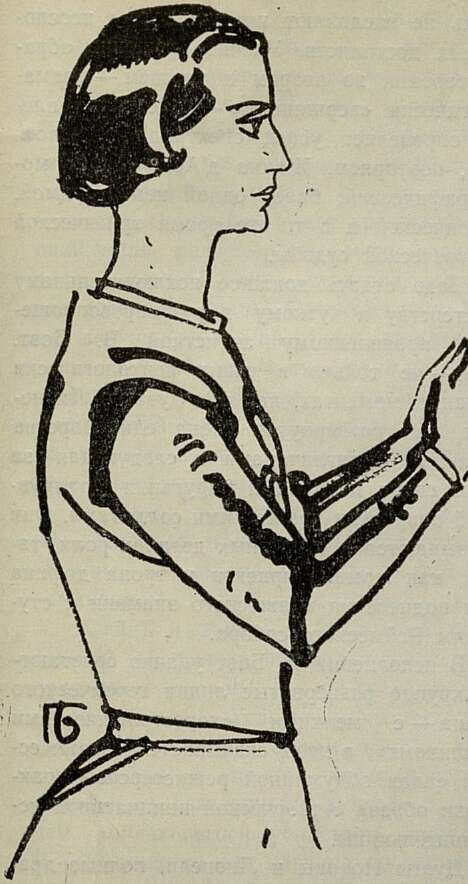
Жанна д’Арк — В. Бовт
Рис. П. Бунина
ции Карла VII1. Нарушение буквы истории — вещь вполне допустимая в произведении искусства, если она осуществляется во имя сохранения высшей исторической истины, ради воплощения духа эпохи.
Конечно, в балете не требовалось скрупулезной хроникальности, но было абсолютно необходимо раскрыть в убедительных образах предательство французских властей по отношению к народной героине, спасительнице отечества. Вот этого-то и нет в спектакле, несмотря на самые энергичные действия Черного монаха.
Что же происходит в сцене разоблачения Иоанны? Монах предъявляет в качестве улики против народной героини шлем Лионеля. В чем же он ее уличает? Если доспехи плененного рыцаря могут еще вызвать у Иоанны замешательство, приступ раскаяния в нарушении обета самоотречения, то в глазах представителей двора и всего народа эти доспехи — не более чем воинские трофеи. И реакция двора, а тем более народа на выступление Черного монаха кажется ничем не оправданной.
Мы критикуем столь подробно отдельные стороны фабульной драматургии балета потому, что глубоко убеждены в огромном значении, которое имеет для творческой судьбы любого советского музыкально-сценического произведения его сценарная основа. Это аксиомное, на наш взгляд, положение все еще недооценивается в практической работе большинства наших театров. Здесь мы вплотную подходим к вопросу о границах инициативы постановщиков в трактовке авторского замысла, границах, которые в балете почему-то принято считать беспредельными. Обращаясь к законченному музыкально-сценическому произведению, балетмейстеры почти всегда видят в нем не более, чем «полуфабрикат», и вместо того, чтобы точно и полно перевести написанное на хореографический язык, начинают «домысливать», доделывать и переделывать само произведение, подчас довольно сильно отклоняясь от авторского замысла. Примеров можно привести великое множество. Укажу хотя бы на изъятие балетмейстером Л. Якобсоном ряда картин при постановке балета А. Хачатуряна «Спартак»; на полную перекройку сценария (а следовательно, и клавира), уже полностью завершенного, балета И. Шварца «Накануне» при передаче его от одного постановщика — Б. Фенстера, другому — В. Варковицкому. Подобного ущемления прав авторов не знал и не знает ни оперный, ни драматический театр (быть может, лишь за вычетом некоторых «максималистских» опытов Мейерхольда).
Нам представляется, что при работе театра над балетом «Жанна д’Арк» законченное произведение на определенной стадии подверглось значительной ломке. Об этом можно судить по тому, что в показанном спектакле — семь картин вместо девяти (помимо пролога и эпилога), имевшихся в законченной партитуре Н. Пейко, а также по позднейшим изменениям содержа
_________
ружавшем ее ореоле народной славы и любви. Произошло это значительно позднее — после неудачного похода на Париж и захвата Иоанны в плен бургундцами при Мариньи.

Черный монах — А. Лазарев
Рис. П. Бунина
ния балета, вроде появившейся в нем фигуры Черного монаха.
Несмотря на высказанные выше серьезные претензии, мы тем не менее расцениваем новую постановку как крупное достижение советского музыкально-хореографического искусства. Отмеченные недостатки безусловно умаляют идейную и художественную значительность спектакля, но отнюдь не заслоняют присущих ему неоспоримых достоинств. Удачное решение образа героини во втором и третьем — драматургически «вершинных» — действиях балета определяет успех спектакля в целом, ибо, повторяем, Жанна д’Арк — балет монографический, балет одной неповторимой, героической и в то же время трагической человеческой судьбы.
Надо отдать должное исключительному мастерству и чуткому дару перевоплощения, проявленному артисткой В. Бовт. Они — не только в таких психологически трудных моментах, как оба дуэта с Лионелем, как развернутая сцена единоборства Иоанны с англичанами и следующая за этим сиена насилия и поругания французской патриотки вражескими солдатами. Она сказываются и в частных деталях роли, таких, как момент присяги у трона дофина или поднесения вражеского знамени к ступеням Реймсского собора.
В исполнении В. Бовт удачно сочетаются крупно развернутые линии героического танца — с мелкими «хореографическими репликами»; в этом сказывается органический сплав обдуманной режиссерской трактовки образа с творческой инициативой исполнительницы.
Дуэты Иоанны и Лионеля, полные драматизма и действенности, композиционно сложные, вбирающие в себя элементы страстного и патетического монолога, принадлежат, на наш взгляд, к ценным достижениям советской хореографии. И здесь (хотя и в меньшей степени, чем у В. Бовт) инициатива исполнителя, артиста Е. Кузьмина, дополняет балетмейстерскую мысль. Артистом очерчен очень колоритный, овеянный духом эпохи, образ благородного рыцаря, живого в своих порывах, но скованного, точно броней, сословными предрассудками.
Великолепно поставлена большая сцена в Арденнском лесу. Здесь постановщик весьма оправданно выступает в качестве драматурга, развивая сценические положения либретто, углубляя авторский замысел при полном сохранении его основы.
После трогательной сцены Иоанны и ее верных соратников появляются с трех разных сторон шеренги закованных в латы британцев. Они застывают на месте, закрытые огромными, во весь человеческий рост, щитами. Нет никаких признаков чего
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Опера и современность 5
- «Тропою грома» 14
- Балет о венецианском мавре 24
- Краткие замечания об Одиннадцатой симфонии 35
- На пути освоения героической темы 42
- Сергей Прокофьев 50
- 7. С. Прокофьев на отдыхе 58
- Музыка к фильму «Иван Грозный» 60
- Встречи с Прокофьевым 67
- Из архива композитора 73
- О перспективах народного творчества в СССР 79
- Героический балет 87
- На спектаклях опереточных театров 93
- «Орлеанская дева» в Свердловском театре 97
- Дирижер и певец 100
- Мария Гринберг 107
- Конкурс скрипачей в Познани 109
- О некоторых вопросах музыкального образования 111
- Заметки о чтении с листа 114
- На симфонических концертах. — Камерные вечера. — Выступления пианистов. — Молодые скрипачи. 117
- Перед грузинской декадой 125
- В Малом зале Ленинградской филармонии 126
- Гастроли в Литве 126
- Армянская музыка сегодня 128
- Успехи харьковских композиторов 131
- Белорусский хор 134
- Юго-Осетинский композитор Б. Галаев 135
- Письмо из Мурманска 136
- Художественная исповедь двух композиторов 138
- Музыка современной Греции 144
- Корейские впечатления 147
- Музыкальный сезон в Париже 150
- Реплики и факты 152
- Конкурс имени Джордже Энеску 154
- Новая книга о Верди 155
- Монография об Антоне Рубинштейне 157
- Путеводитель по симфониям Мясковского 160
- Нотографические заметки 161
- Хроника 165



