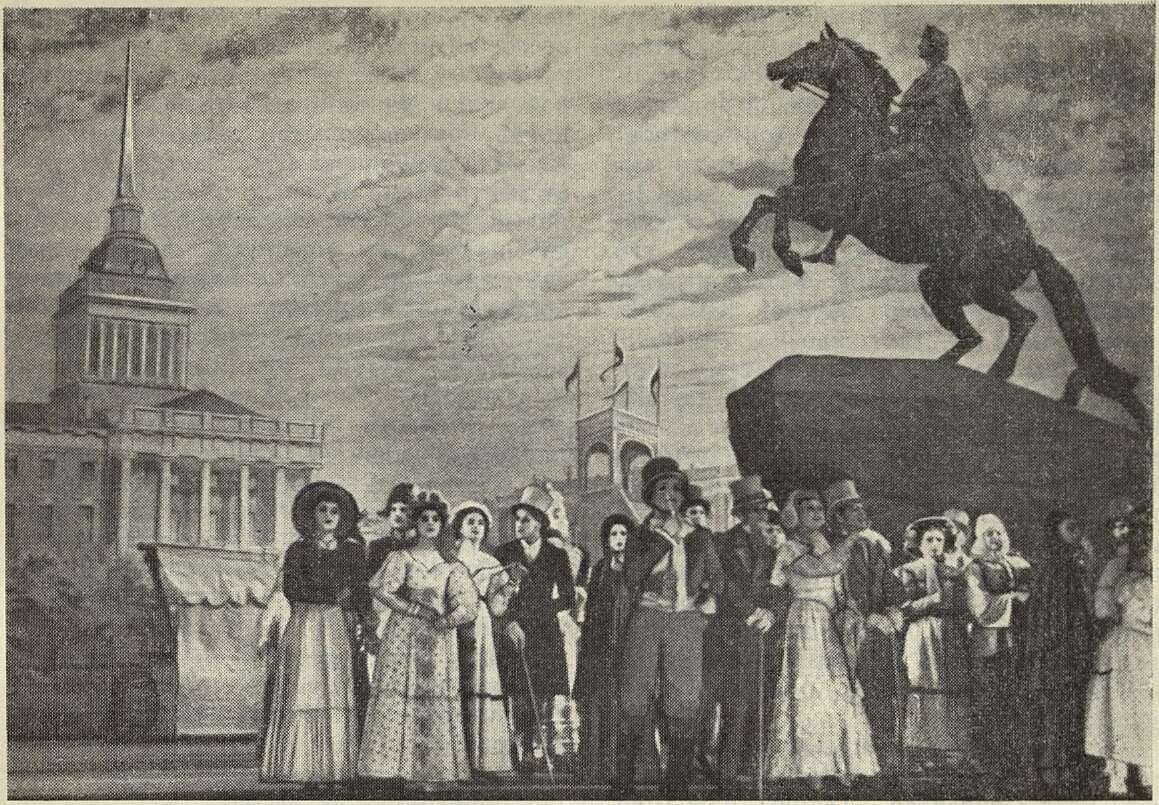
На Сенатской площади. Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова
Фото Гладштейна
многих миллионов простых людей, ответила на вопрос, поставленный поэтом в «Медном всаднике», и это, думается нам, должно было ощущаться в апофеозе пушкинского спектакля. Такое решение финала было бы тем более уместным, что эта идея явственно и четко ощущается в музыке. Когда в финальной картине балета звучит торжественный гимн великому городу, слушатель готов увидеть на сцене нечто близкое ему, родное по времени и духу. Музыка Глиэра как бы переносит повествование в наши дни, завершая действие жизнеутверждающим апофеозом нашей современности. Такое ощущение естественно возникает у слушателя, ибо «тема великого города» насыщена интонациями советской песенности. Она вполне современна по своему стилю, сочетающему активную поступь революционно-массовой песни с величавой напевностью русского славления.
Вызывая ясные ассоциации с настоящим, «тема великого города» отнюдь не является чужеродной среди других образов партитуры. Это характерно для всей музыки «Медного всадника». Вся партитура балета, включая и отдельные танцы, построенные на народных мелодиях (пляска во второй картине, танец матери Параши), и ведущие темы-характеристики, составляющие основу его музыкальной драматургии, по-русски напевна, выразительна, мелодически конкретна и образна. Ясность и пластическая рельефность музыкальных тем, реалистическое использование всех элементов музыкальной речи, — мелодии, ритма, гармонии, — естественность и выразительность оркестровки, полнозвучной и красочной, близки к классическим традициям русской музыки.
Это не те бледные создания эклектичного мышления, рабски повторяющие отдельные элементы классического стиля, которые у нас иной раз пытаются выдать за «продолжение» традиций русской музыки. Глиэр радует слушателя непосредственной, живой прелестью и грацией мелодических образов, самостоятельностью музыкальной концепции балета, высокой,
благородной простотой музыки. Повинуясь искреннему чувству и правдивому ощущению жизни, не пытаясь ошеломлять слушателя искусственной новизной средств, композитор создал монументальное симфоническое полотно, ясное по мысли и по форме.
Музыка балета не иллюстрирует действие, а объясняет его, наполняет его плотью и кровью, живой эмоциональностью и жизненностью образов. Композитор свободно сочетает сквозное симфоническое развитие, сложную систему лейтмотивов с законченными эпизодами, разнообразием танцовальных форм и жанров. Глиэр искусно вплетает в партитуру балета и классические адажио, и вариации (сцены Евгения и Параши), и бытовые танцы эпохи (вальс, полька, менуэт, контраданс), и русские народные пляски и хороводы. Вместе с тем композитор полностью отказывается от старых традиций «вставного» дивертисмента, отвлекающего аудиторию от основной идеи спектакля.
Каждый эпизод, каждый танец в балете драматургически оправданы, несут в себе образ, характер. Таковы, например, танцы во второй картине: русская плясовая с ее широкой напевностью и задорной игрой ритмов, танец голландских моряков — тяжелый, грузный, монотонный в своей неповоротливости, заключительная русская пляска с ее буйным разливом народного веселья. Танцы на Сенатской площади, марш проходящего полка, танец задумчивой девушки, танец трех озорных девушек и другие, вплетенные в действие балета, создают тот жанровопсихологический фон, на котором развивается драма Евгения и Параши.
Важное качество музыкальной драматургии балета — характерность основных образов и их последовательное развитие. Такова начальная «тема пустынных волн», носящая в прологе несколько иллюстративный характер, но достигающая большого симфонического раскрытия в картине наводнения. Такова вторая тема пролога — «тема Петра», воссоздающая величие и силу характера, активность и целеустремленность воли и ясность мысли царя-преобразователя. Широкое песенное изложение, мелодическая развернутость темы насыщены экспрессией русской напевности. Это тема великого человека, и русского человека прежде всего. «Тема Петра» затем звучит во всей своей полноте и в картине спуска корабля, и в картине ассамблеи. Позднее, когда развертывается повествование о Евгении и Параше, «тема Петра» уступает место «теме Медного всадника». Этот новый лейтобраз родственен «теме Петра», но звучит совсем по-иному — как грозный марш, воплощение роковой силы, преследующей Евгения. Таким образом композитор не отождествляет Медного всадника с Петром, хотя и отталкивается от его первоначальной темы. Как мы видим, именно музыкальная драматургия является ведущей в раскрытии основной философской идеи поэмы.
«Тема Медного всадника», многократно вплетаясь в музыку сцены Евгения и Параши, как бы ставит в зависимость их трагическую судьбу от образа «горделивого истукана».
Апогея своего развития «тема Всадника» достигает в момент, когда безумный Евгений восстает против «державца полумира»:
И во всю ночь, безумец бедный
Куда стопы не обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.
В последний раз она звучит патетически и грозно, когда изображается гибель Евгения, преследуемого страшным видением.
Рядом с трагической «темой Медного всадника» в музыке балета выразительно и поэтично раскрыта лирическая тема любви Евгения и Параши. Скромные мечтания бедного юноши о семейном счастье, правдиво, с едва уловимой, грустной иронией раскрытые Пушкиным, композитор передал в образах большой одухотворенности и поэтического обобщения. Именно эта сторона музыки, ее лиризм, особенно пленяет в музыке Глиэра, наполняет ее чистотой и свежестью юных чувств и тем самым приближает ее к восприятию советских людей — носителей самых светлых и целомудренных эмоций. Высокой поэзии простых чувств полны и сцена свидания влюбленных на Сенатской площади, и их сцена у домика Параши, и мечты Евгения о своей любимой в страшную ночь наводнения, и даже сцены его безумия, когда в потрясенном мозгу юноши возникают образы погибшей любви.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 3
- Неотложные задачи советской музыки 5
- Преодолеть до конца пережитки формалистического мышления 11
- Театр, отстающий от требований жизни 20
- Новый пушкинский балет 28
- О некоторых проблемах развития братских музыкальных культур 37
- Против невнимания к запросам масс 42
- За отличную советскую музыку быта 43
- Передаем легкую музыку 45
- Когда же появится оркестротека? 49
- Письма В. В. Стасова к С. Н. Кругликову 50
- Иоганн Штраус 54
- Хоровое творчество Эмиля Мелнгайлиса 60
- Киргизия — страна песен 62
- Белорусский народный оркестр 67
- Очерки музыкального быта Сормова. Очерк 2 71
- Полновский колхозный хор 76
- Н. М. Данилин — выдающийся русский хоровой дирижер 78
- Галина Баринова 80
- О детском хоровом пении 83
- Энтузиаст русских народных оркестров 87
- Молодые скрипачи 89
- «Садко» на сцене Большого театра 92
- Два «Садко» (1901−1949) 99
- Пушкинский спектакль в оперетте 100
- Новые оперы свердловских композиторов 101
- Квартет им. Н. А. Римского-Корсакова 103
- По страницам печати 106
- Хроника 111
- В несколько строк 115



