ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО И ПЕДАГОГИКА
Эмиль Гилельс
Я. МИЛЬШТЕЙН
Судьба Гилельса необычна. Ему всего тридцать два года, но его артистическое имя уже насчитывает около двух десятилетий. О нем заговорили в 1929 году, когда двенадцатилетним мальчиком он дал свой первый самостоятельный концерт в Одессе. Через два года он уже участвовал во Всеукраинском конкурсе пианистов, на котором буквально ошеломил всех своей блистательной игрой: допущенный по молодости лет к соревнованию «вне конкурса», он оказался головой выше других участников, а среди них было немало даровитых пианистов; в сущности он был негласным победителем этого конкурса.
Конечно, в игре Гилельса в то время еще было много незрелого, неосознанного, и, пожалуй, наивного. Но уже тогда было ясно, что в мир вступает новое, живое и яркое дарование, что Гилельс играет так, а не иначе, не из желания всех удивить, а в соответствии с внутренним строем своего таланта.
Прошло еще два года, и Гилельс занял первое место на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей в Москве; ему было только шестнадцать лет. Тот, кто присутствовал на этом конкурсе, никогда не забудет его выступления, особенно исполненной им в заключительном туре фантазии Листа — Бузони на темы из оперы «Свадьба Фигаро» Моцарта. Впечатление было поистине ошеломляющее. Свежая сила юности, сокрушительная виртуозность, ясность, простота и выдержка, стихийная мощь и властная динамическая энергия, — все это с непреодолимой силой захватывало слушателей и вызывало восхищение. Каждый почувствовал, что произошло действительно большое событие, что давно уже Москва не слышала пианиста со столь исключительными возможностями. Как-то сразу, весомо и зримо, Гилельс вошел в музыкальный мир столицы. И с тех пор его имя одним из первых приходит на уста, когда говорят о молодом поколении советских пианистов.
Гилельс продолжал работать упорно и настойчиво. Мастерство его созревало, росло изо дня в день, репертуар расширялся, знания прибавлялись. Ему пришлось принять участие в ответственнейших международных соревнованиях. И он достиг поразительных результатов. В Вене (1936 г.) он получил вторую премию, уступив пальму первенства лишь своему соотечественнику — Я. Флиеру: в Брюсселе (1938 г.) при очень сильном составе участников и труднейших условиях конкурса, он завоевал первую премию, опередив английскую пианистку М. Джонсон (ныне Мура Лимпани) и Я. Флиера. Это был подлинный триумф: добиться мирового признания в двадцать лет — удел немногих избранных.
Но эти успехи и достижения не вскружили ему голову, не исчерпали его возможностей. Напротив, они способствовали еще большему расцвету его дарования. Гилельс не идет по пути наименьшего сопротивления, не специализируется на том репертуаре, который ему лучше всего удается. Смело вторгается он в те области музыки, в которых еще не пробовал своих сил, стремится охватить как можно больше разных по стилю произведений. Возрастающая настойчивость его в этом отношении становится как бы потоком, постоянно захватывающим все новые и новые области фортепианного искусства.
Концертная деятельность Гилельса достигает в годы войны особенного размаха и силы. Он выступает в Москве, в осажденном Ленинграде, в Сибири, на Урале. Игра его становится все строже, в том высоком смысле, который заключен в этом слове для истинного художника, она делается содержательнее, глубже, значительнее. За выдающуюся исполнительскую деятельность в январе 1946 года ему присуждается Сталинская премия первой степени.
Такое стремительное и раннее развитие, кажущееся на первый взгляд столь необыкновенным, неповторимым и даже необъяснимым, при внимательном рассмотрении оказывается закономерным и понятным.
Гилельс — истинный сын своей страны и своего времени. Быстрыми и удивительными успехами он обязан прежде всего тому новому общественному строю, который его воспитал. Никто, конечно, не станет отрицать и умалять значения его исключительного природного дара. Но кто знает, что могло ожидать Гилельса в жизни, если бы он вырос в иных условиях! Выходец из бедной семьи, он был бы обречен на самую тяжелую и отчаянную борьбу за существование. Сумел ли бы он развернуть свое дарование и достичь вершин искусства? Не был ли бы он сломлен
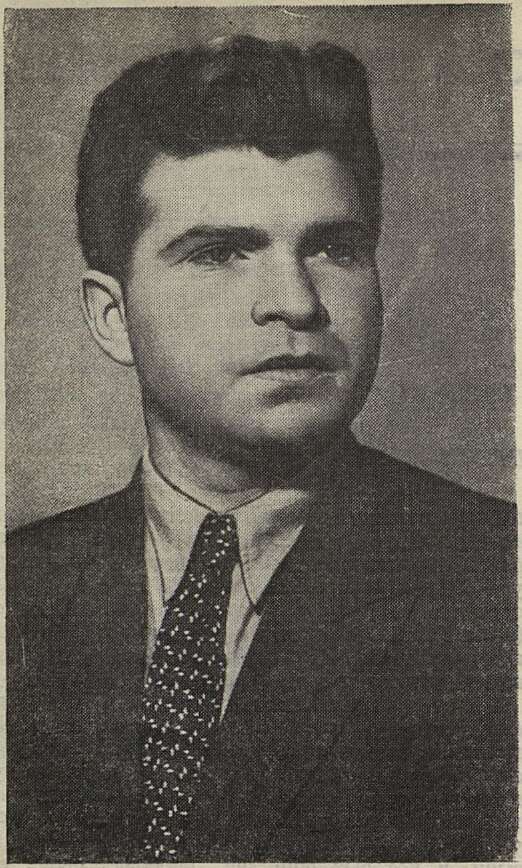
силой обстоятельств? Во всяком случае, ему пришлось бы претерпеть немало жизненных невзгод, прежде чем выйти на широкую артистическую дорогу. В условиях же советского строя он, как и многие другие одаренные молодые музыканты, был согрет заботой государства и окружающих людей. С ранних лет, обеспеченный особой правительственной стипендией, он мог спокойно жить и учиться. За развитием его таланта пристально следили, вовремя предостерегая от соблазнов и искушений, столь часто встречающихся на пути молодого артиста.
Можно сказать, что Гилельс рос вместе со всей страной. В его воспитание неотъемлемой, органичной частью входили и пафос социалистического строительства, и героика боевых подвигов, и все творческое напряжение жизни советской страны.
Не случайно его любимым героем был Валерий Чкалов. Образ этого мужественного летчика как бы символизировал для него непреклонный творческий труд, волю и упорство, беззаветное служение Родине.
«Я думаю, — писал Гилельс, — о его замечательно вдохновенном, подлинно творческом труде. Можно совершить полет и остаться ремесленником. Чкалов же был летчиком-творцом, и поэтому приемы высшего пилотажа, которые он демонстрировал во время авиационных праздников, были настоящими шедеврами летного мастерства... Чкалов совершал, вернее, творил свои полеты так, как это делали великие композиторы и художники, — горячо, страстно, вдохновенно. Мы должны учиться у Чкалова этому чудесному творческому горению, мы должны в своем искусстве дерзать, как дерзал великий летчик нашего времени...»
И Гилельс стремился жить, работать и дерзать, как жил и работал этот замечательный человек. Он учился у него мужеству, смелости, волевой организованности, выдержке и, наконец, критическому отношению к своей деятельности. Он понимал, что то внимание, которым он и его сверстники окружены, обязывает ко многому. Он страстно хотел, чтобы его искусство было таким же простым, хорошим и понятным народу, как деяния лучших людей его времени.
Не все, конечно, ему сразу удавалось. Подчас, он развивался так быстро, что не успевал приводить в соответствие свои замыслы, возможности и деяния. Не сразу научился он проверять себя и отбрасывать в сторону неудавшееся. Не сразу выработалось у него и острое, критическое суждение, которое столь необходимо исполнителю. Но никогда не находился он в плену рутины, безвкусия, нездоровой самоуверенности, — все эти недостатки были ему предельно чужды.
Так рос и мужал Гилельс. Так шел он вперед. Он достиг общего признания и славы не в результате минутной удачи, не в силу слепого случая. Он проявил непреклонное упорство в достижении цели. Ни на один момент он не успокаивался на достигнутом, — он не только мечтал, но и последовательно осуществлял свои мечты. Вот почему он оказался одним из тех немногих, кто сумел перейти решающий рубеж от блестящего периода музыкальной юности к стадии полной духовной зрелости. Вот почему каждая новая программа его вызывает сильные и свежие впечатления, заставляя даже «заигранные» произведения воспринимать по-новому.
Каковы же характерные особенности исполнительского стиля Гилельса? В чем тайна силы и жизненности его искусства?
Первое, что отличает Гилельса, — это мужественность и волевая напряженность игры. Исполнение его совершенно чуждо сентиментальности, манерности, изнеженности. Мужественность покоряет у Гилельса не только в местах подъема, полных сокрушающей силы и стремительности, но и в сумрачных, меланхоличных эпизодах, всегда у него несколько суровых и нарочито сдержанных. Художественное мышление Гилельса не знает экзальтации и вычурности. Во всем ощущается избыток здоровой энергии, естественно изливающейся из его натуры.
Гилельс — пианист величайшей сосредоточенности, собранности и дисциплины. Он воздействует не только своей стихийной силой и темпераментом, но и логичностью, последовательностью исполнительского замысла, уверенностью мастерства.
В сущности Гилельс во всем чрезвычайно прост. Исполнение его всегда реалистически-сочное, полновесное, далекое от худосочного рафинированного изыска. Оно монументально и классично. Чтобы почувствовать его достоинства, не надо вооружаться лупой. Это искусство крупного плана; его не подавляют ни скопление публики, ни большие размеры помещения; оно не бледнеет и не тускнеет от этого, а, напротив, становится более ярким, красочным и блистательным.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 1
- Прогрессивные музыканты мира в борьбе за демократическое музыкальное искусство 3
- Обращение 2-го Международного съезда композиторов и музыкальных критиков в Праге 7
- Резолюция 2-го Международного съезда композиторов и музыкальных критиков в Праге 9
- На Международном съезде композиторов и музыкальных критиков в Праге 11
- Заграничные встречи и впечатления 21
- Советские музыканты в Чехословакии и Польше 24
- Зарубежные заметки 27
- О русской природе и русской музыке 29
- Арам Хачатурян и его критики 40
- О русском народном многоголосии 49
- Эмиль Гилельс 55
- А. Н. Скрябин-педагог 58
- Концерты скрипачей 62
- Об эстонской хоровой культуре и роли школьных хоров на XII Республиканском певческом празднике 66
- На пленуме Союза советских композиторов Молдавии 67
- Хроника 70
- В несколько строк 77
- По страницам печати 80
- Шаржи 88
- Хор им. Пятницкого в Чехословакии 91
- Музыка Индии 98
- Нотографический заметки 101
- Adagio из 3-го квартета 106



