спира1 и непосредственно на древнеримскую легенду о патриции Гнее Марции, получившем прозвище «Кориолан». Образ самого Кориолана здесь наиболее важен, и познакомить слушателя перед исполнением увертюры Бетховена с этой древнеримской легендой совсем не лишне.
Мы затронули лишь самые существенные ошибочные и спорные положения, выдвинутые Хохловым, не имея возможности остановиться на более частных неточностях, которых, к сожалению, и в этом труде немало. Есть и чисто литературные небрежности: «Достаточно напомнить здесь о творчестве С. И. Танеева, композитора, как известно не особенно импонировавшего программной музыке...» (стр. 139). Может быть, как раз наоборот: программная музыка не импонировала Танееву?
Итак, в работе Хохлова «О музыкальной программности» есть много ценного, значительная часть теоретических высказываний автора достойна высокой оценки; ему удалось в известной степени создать целостную концепцию сущности программной музыки, возвышающую данный труд над многим из того, что было написано о программной музыке в последние годы. Вместе с тем даже та ограниченная задача, которую поставил перед собой Хохлов, — только «общеэстетическое определение музыкальной программности» (стр. 4) — решена не до конца.
Присоединимся к пожеланию Хохлова, чтобы его брошюра послужила «побудительным стимулом к дальнейшим изысканиям в области музыкальной программности, ее теории и истории...» (стр. 4).
_________
1 Соллертинский писал об увертюре «Кориолан» Бетховена: «...возможно, что, создавая увертюру, Бетховен вдохновлялся не мелодраматической риторикой Коллина, а образом шекспировского героя» (И. Соллертинский. Шекспир и мировая музыка. М., Музгиз, 1962, стр. 20).
Л. Баренбойм
ТЕОРИЯ АРТИКУЛЯЦИИ БРАУДО
И. Браудо — выдающийся артист и глубокий исследователь — сумел в своей книге «Артикуляция» перебросить мостик от чисто исполнительских вопросов к ряду других. Плодотворные выводы, к которым он пришел, обогатят и композитора, и исполнителя, и педагога, и редактора музыкальных изданий, и теоретика музыки, и теоретика музыкально-исполнительского искусства, и музыковеда-историка, и психолога, занимающегося вопросами восприятия музыки.
Эта теория создана знатоком и исполнителем музыки Баха. Интерпретация любой музыки требует внимания к артикуляции. Но в отношении Баха эта проблема стоит особенно остро. И вот почему: артикуляция является здесь одним из важнейших и ничем другим не компенсируемых выразительных средств. В рукописях самого Баха, как известно, артикуляционные указания расставлены до чрезвычайности редко (при этом меньше всего — в произведениях для клавишных инструментов). Перед исполнителем, педагогом, редактором могут быть три пути: первый — идти от интуиции (кстати говоря, этот путь может у талантливых людей дать отличные результаты, но при условии, что в слуховом сознании музыканта имеется достаточный запас баховской музыки) ; второй — по сохранившимся отдельным артикуляционным указаниям самого Баха попытаться понять особенности его системы артикулирования; третий — установить общие закономерности артикуляции в музыке, а на их основе — принципы артикулирования в произведениях того или иного стиля, в данном случае Баха. Отнюдь не отрицая роли интуиции, Браудо выбрал третий путь — самый плодотворный и вместе с тем самый трудный.
Автор выступает против весьма распространенного представления о том, что «нота есть константа, не способная сама по себе выразить какие-либо соотношения». Вокалисты, скрипачи, кларнетисты, валторнисты и исполнители на многих других инструментах бережно «несут» каждый отдельный звук и «вкладывают в него при этом свою волю»; каждый из них, если он подлинный художник, владеет и управляет «историей тона», «процессом жизни тона». И отдельная нота «вибрирует, филируется, нюансируясь при этом в своих интонациях, динамике, тембре».
Касаясь специфики органного звучания, Браудо пишет: «Здесь в пределе инструментализации нота, лишенная и вибрации, и филировки, и затухания, не является ли она вполне константной? Казалось бы, исполнитель не волен здесь над тоном, который он извлек. И все же в одном смысле он продолжает владеть судьбой тона. Он не волен изменить полет выпущенной им стрелы, но он волен приказать ей упасть. Oн не волен отпустить клавишу, которую нажал. Таким образом, процесс внутри ноты не исчезает и здесь. Он лишь ограничен в крайней степени» (стр. 191).
Не естественно ли после всего сказанного, что именно органист, на инструменте которого «процесс жизни тона» только и может быть передан путем артикуляции, обратился к исследованию этого средства музыкальной выразительности?
Книга Браудо не легка для восприятия. Но
_________
И. Браудо. Артикуляция (о произношении мелодии). Л., Музгиз, 1961, 197 стр., тираж 4500 экз.
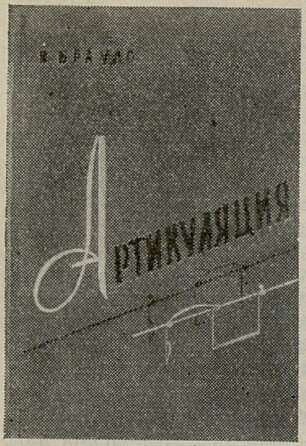
вдумчивому музыканту, умеющему к тому же домыслить лаконично изложенные положения автора, этот труд, на который потрачено много лет жизни, не только даст знания и всесторонне разъяснит артикуляционные процессы и закономерности, но и доставит чисто эстетическое наслаждение.
Чем именно? Сочетанием почти что математической точности и артистической тонкости.
Роль артикуляции в музыкальном искусстве исключительно велика. На одной из страниц своей книги Браудо определил ее роль так: «... конкретным выразительным значением обладают не средства произношения, взятые сами по себе, а то, что произносится. Но это произносимое... не может быть выражено, помимо необходимой в данном случае артикуляции. И, лишаясь этой необходимой артикуляции, музыка... теряет присущий ей смысл» (стр. 6).
Сейчас, после выхода в свет книги Браудо, становится ясным, что один из недочетов такого превосходного музыковедческого труда, как книга Л. Мазеля о мелодии, заключается в недостаточном внимании автора к артикуляционным процессам, происходящим в мелодической линии, что существенный недостаток весьма содержательных комментариев Г. Когана к его изданию транскрипций органной Токкаты d-moll — в недооценке значения и роли артикуляционных проблем.
В ряде случаев из, казалось бы, частных наблюдений Браудо делает широкие выводы. Вот, скажем, сопоставляется с точки зрения артикуляции тема финала Пятой симфонии Бетховена с темой баховской Фуги C-dur, и становится убедительным широкий исторический вывод, сделанный автором: «За двумя приемами артикуляции мы слышим двух авторов и в конечном счете две эпохи... Нужен был переворот во всем музыкальном искусстве, чтобы вызвать к жизни приемы артикуляции, обратные баховским» (стр. 44).
Выдающиеся музыканты-композиторы и исполнители умели, разумеется, с величайшим мастерством пользоваться этим выразительным средством. В работах ряда зарубежных авторов — Гуго Римана, Германа Келлера, Карла Маттеи, Пауля Миса, Рудольфа Штеглиха и других — были сделаны попытки обосновать и объяснить артикуляционные проблемы. Но, несмотря на интересные частные наблюдения, им все же не удалось создать обоснованную и обобщенную теорию артикуляции. Исследование, с которым выступил Браудо, является новаторским, ибо он сумел разрешить ряд трудных задач и внести ясность в эти столь насущные проблемы.
Одним из очень важных положений Браудо (которое, собственно говоря, и помогло ему создать общую теорию артикуляции) является выдвинутая им теория о прямых и обращенных артикуляционных приемах, о прямом и обращенном приеме цезуры; иными словами, о том, что различительные функции артикуляции могут быть достигнуты взаимообратными приемами. Автор поясняет свой принцип простым примером: если нужно, предположим, подчеркнуть различие двух предметов с помощью двух красок — белой и черной, то можно один предмет выкрасить в белую, другой — в черную краску; но с равным успехом молено поступить и наоборот: первый окрасить в черный цвет, второй — в белый. И в том и в другом случае краски выполнят свою различительную функцию, подобно тому, как выполнят свою различительную функцию и противоположные артикуляционные свойства. При этом Браудо не упрощает вопроса: он понимает, что соотношение прямой и обращенной артикуляции «не сводится к аналогичности зеркально-обращенных приемов».
Столь же просто определение сущности артикуляции. Браудо показал, что всем его предшественникам была присуща одна ошибка: они стремились охарактеризовать артикуляцию путем установления ее функции, не замечая множественности этих функций. Браудо исходит из другого положения. Он пишет: «Единство же фактора артикуляции является нам не как единство функций, а как единство средств» (стр. 189).
В результате рассуждений о «жизни тона» он приходит к выводу, что вся область процессов внутри ноты (вибрация, филировка, динамика и многое другое) должна быть терминологически обозначена как музыкальное произношение в широком смысле слова. Часть же этого процесса, а именно переход от звучащей части ноты к незвучащей, он предлагает называть произношением в узком смысле слова или артикуляцией.
Создавая теорию и вводя новые понятия, Браудо вынужден был разработать свою терминологию и дать точные определения вводимым терминам. Эта задача была блистательно им выполнена. Введенные понятия и термины — упомянутое прямое и обращенное артикулирование, а также такие, как внутримотивные и межмотивные цезуры и сращения, явление двузначности, тоны двойного значения, разделяющие лиги, артикуляционные тональности, артикуляционные модуляции и многое другое, — начинают уже использоваться в трудах теоретиков исполнительского искусства и давать свежие побеги в научных работах молодых исследователей.
Теория Браудо родилась из обобщения практического исполнительского опыта. Но Браудо отлично отдает себе отчет в сложности обратного пути — от теоретического анализа к живому исполнительству.
Формулируя свою точку зрения об эрудиции и интуиции в исполнительском творчестве, автор проявляет вполне понятную осторожность: «Вопрос о том, в какой мере в решении артикуляционных деталей принимает участие эрудиция, — пишет автор, — и в какой интуиция, принадлежит к труднейшим вопросам педагогики. Однако... мне хотелось бы указать, что в какой-то мере осознание закономерностей артикуляции при всех условиях необходимо. Как показывает практика, на иссушающую роль анализа жалуются как раз те исполнители, деятельность которых отмечена недостаточностью музыкальной интуиции и воображения» (стр. 77–78).
Браудо неоднократно напоминает исполнителю о необходимости правильного понимания той цели, к которой ведут его авторские рассуждения и анализы. Он подчеркивает, что конечность его выводов не следует рассматривать как рецепты, что практически
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- 1. Молчанов К., Прокофьев А. Комиссары 5
- 2. Галиев А., Чулюкин Ю., Шароев И. Семь цветов музыки 8
- 3. Сокольская Ж. Революции посвященная 20
- 4. Сохор А. Две "Тетради" В. Гаврилина 25
- 5. Гиппиус Е., Ширяева П. Из истории песни "Красное знамя" 31
- 6. Десятник Е. Запевала революции на Украине 41
- 7. Зелов Н. Они помогали бороться 47
- 8. Громов Арк., Шапировский Эм. У истоков 48
- 9. Холопов Ю. Формообразующая роль современной гармонии 51
- 10. От редакции 60
- 11. Глиэр Р. Письма к М. Р. Ренквист 62
- 12. д'Энди Венсан. "Папаша Франк" 75
- 13. Лист, Дюка, Роллан о Франке 81
- 14. Пазовский А. Музыка и сцена 84
- 15. Лемешев С. Из автобиографии 91
- 16. Барсов Ю. Без сопровождения 103
- 17. Яковенко С. Советскую песню - в консерваторию 105
- 18. Шахназарова Н. Симпозиум в Берлине 108
- 19. Г. П. Продолжение следует 113
- 20. Буковин А. "Эй, хлеб, хлеб черный!" 119
- 21. Нестьев И. Ювяскюльское лето 122
- 22. Шнеерсон Г. Наш друг Алан Буш 126
- 23. Буш Алан. Уот Тайлер 132
- 24. Житомирский Д. Проблемы советской оперы 135
- 25. Ауэрбах Л. Рассматривая проблемы программности 140
- 26. Баренбойм Л. Теория артикуляции Браудо 143
- 27. Поляновский Г. Хоры М. Коваля. Песни и хоры Г. Плотниченко 146
- 28. Новые грамзаписи 148
- 29. К 50-летию Октября 149
- 30. Говорят руководители театров и филармоний 149
- 31. Три вопроса автору 153
- 32. Из фотоальбома музыканта 156
- 33. Поздравляем юбиляров 158
- 34. Зим И. Через тридцать лет 160
- 35. А. Б. Новости из Клина 161
- 36. Брагинский А. Выставка-смотр 162
- 37. Гейбак М. Друзья из Цесика 163
- 38. Воротников В. Юным пианистам 163
- 39. Масленникова М. Танцы Сибири 163



