
А. Виеру (Румыния) и Д. Кабалевский
художественную публицистику. Описательный технологический анализ, стирающий индивидуальный облик произведения, преувеличенные восторги или обтекаемая неопределенность эстетической оценки во многих случаях подменяют плодотворный разговор музыковеда с композитором, с читателем.
Было бы неверным представлять дело так, будто во всех этих грехах виноваты лишь те, кто пишет о советской музыке. Здесь есть много причин, и главная среди них — это серьезное отставание музыкальной науки, особенно музыкальной теории и эстетики, от практики нашего искусства.
Быть может, слово «отставание» в какой-то мере стало надоедливым. Но что поделаешь, если все еще велик разрыв между нашей творческой действительностью, насыщенной интереснейшими явлениями и событиями, и теоретической мыслью, призванной осознать эти явления, видеть перспективу их развития! Нам по-прежнему не хватает проблемных исследований, рассматривающих музыкальную современность в ее многообразных аспектах, почти отсутствуют работы, глубоко анализирующие стиль, язык советской музыки, ее новаторские черты, рожденные новым, социалистическим содержанием. Перед нашим музыковедением еще стоит задача всестороннего раскрытия сущности социалистического реализма в музыке, убедительной эстетической разработки проблемы традиций и новаторства.
Мы плохо изучаем процессы, совершающиеся в музыкальном искусстве капиталистического мира. За это время появилась лишь одна книга, в которой делается попытка анализа широкого круга явлений современной музыки Запада. Эта книга Г. Шнеерсона «О музыке живой и мертвой», где дана критика формалистически» течений, модных среди известной части музыкантов зарубежных стран.
Надо сказать, что нашим музыковедам' порой не хватает принципиальности в оценке тех или иных явлений буржуазного искусства XX века. Это сказывается, например, в попытках реабилитации некоторых модернистских течений. Я имею в виду дискуссии, проведенные в последнее время Институтом истории искусств, в ходе которых наметилось стремление выдать «индульгенцию» австро-немецкому экспрессионизму, считать его чуть ли не одним из передовых течений в искусстве, в том числе и музыке XX века. В выступлениях ряда искусствоведов и музыковедов акцентировалось «прогрессивное», «обогащающее» значение экспрессионизма для всей современной культуры, включая и наше советское искусство. Такого рода «открытия», конечно, необогащают нашу творческую практику: по сути дела они возвращают нас к этапу, давно пройденному советской музыкой.
Большие задачи стоят перед советским музыкознанием, и решить их под силу нашим ученым, критикам и, добавлю, композиторам, возможности которых в развитии эстетической мысли и художественной критики не следует недооценивать. Условие успеха заключается в том, чтобы работа во всех областях музыкознания — теории, истории, фольклористики, во всех его жанрах — от научного исследования до популярной брошюры или рецензии — была тесно связана с творческой практикой, с животрепещущими вопросами, выдвигаемыми новым этапом развития советского музыкального искусства.
Владимир Ильич Ленин указывал, что программа партии является важнейшим материалом для пропаганды и агитации. «В нашей программе, — говорил он, — каждый параграф есть то, что должен знать, усвоить и понимать всякий трудящийся» (Соч., том 29, стр. 168).
Перед нашей музыкальной печатью,
критиками, лекторами стоит задача широкой пропаганды эстетических положений, записанных в новой Программе КПСС.
Общественная роль союзов композиторов
Деятельность нашего Союза в целом, как и каждого композитора и музыковеда в отдельности, в первую очередь оценивается, разумеется, по ее творческим результатам. Но мы не можем ограничить наш разговор на съезде лишь вопросами творчества в собственном смысле этого слова. В советскую эпоху сформировался новый тип работника искусств, важнейшей чертой которого является органичное сочетание творческой и общественной деятельности. Я бы сказал даже так: не просто сочетание, а глубокая внутренняя потребность в таком сочетании характеризует облик современного советского художника.
Потребность эта воспитана в нас всей атмосферой жизни нашего народа, всем ходом развития Советского государства, нашей культуры, в частности. Надо ли вновь говорить, что успешно влиять своим творчеством на духовный мир людей может только художник, тесно связанный с народом, с окружающей жизнью! Ничтожно ма,ло осталось сейчас деятелей искусства, которые не понимали бы этой азбучной истины — основы основ всей нашей художественной культуры. Художник становится у нас одновременно и воспитателем-пропагандистом, и его творческая работа теснейшим образом сплетается с его общественной деятельностью.
Еще в сравнительно недавнее время общественная активность композитора или музыковеда определялась главным образом, если не исключительно, его участием во внутренней жизни Союза композиторов — состоял ли он в каком-либо звене руководства Союза, присутствовал ли на заседаниях секций и комиссий, выступал ли на пленумах и совещаниях, или выполнял какие-нибудь поручения.
Конечно, все эти виды общественной деятельности очень важны и попросту необходимы, поскольку Союз наш — организация общественная по своей природе и участие всех членов Союза в жизни своей организации не только декларировано в уставе, но и подсказывается повседневной практикой. Даже более того — мне кажется, что настал момент откровенно поговорить с теми нашими товарищами, которые почему-то полагают, что членство в Союзе композиторов дает право многое требовать от Союза, но не обязывает чем-либо помогать ему.
Но как бы ни важна была общественная деятельность внутри Союза композиторов, нельзя забывать главное: ведь Союз существует не для самого себя, и наша общественная активность должна оцениваться прежде всего по тому, как мы вторгаемся в гущу жизни, какова наша практическая роль в строительстве социалистической музыкальной культуры.
Я считаю, что сегодня, несмотря на серьезные недостатки, есть все основания сказать: советские композиторы и музыковеды заметно укрепили общественнотворческие связи с жизнью. В этой области не может, конечно, и не должно существовать никаких стандартов. Жизнь наша столь богата и многообразна, что любой композитор, любой музыковед найдет в ней то, что наиболее отвечает его индивидуальным склонностям. Тем не менее можно говорить, что существуют уже некоторые сложившиеся виды, формы общественной деятельности членов Союза.
Во-первых, это активная помощь музыкальной самодеятельности. Есть композиторы, крепко связанные с рабочими худо-
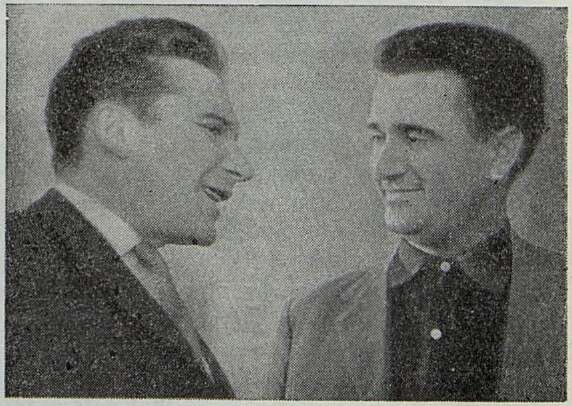
М. Вайнберг и А. Арутюнян
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- На пути к музыкальной культуре коммунизма 5
- Трибуна съезда 31
- Выдающийся художник 46
- В. Я. Шебалин 50
- На стихи советских поэтов 55
- Спасибо, моя родная земля 58
- Тончайший музыкант, замечательный педагог 62
- Счастливая судьба 64
- Дорогой учитель, редкий человек 66
- К творческому расцвету 67
- В Белоруссии 71
- В поисках новизны 74
- За научную основательность и этическую чистоту 78
- «Укрощение строптивой» в Большом театре 84
- Герой, бунтарь, человек 92
- От «музыкальной драмы» — к опере 96
- Говорят председатели и члены жюри 100
- Говорят председатели и члены жюри 103
- Говорят председатели и члены жюри 106
- Говорят председатели и члены жюри 109
- Члены жюри и лауреаты конкурса виолончелистов 111
- Талантливый музыкант 113
- Венцы в Москве 114
- Концерт турецкой пианистки 116
- Квартет им. Лео Вейнера 117
- Новая встреча с Милошем Садло 118
- Илекский почин 119
- Поговорим о краевой филармонии 124
- Желаю Вам радости! 128
- Звучит советская музыка 130
- К двадцатилетию премьеры Седьмой в США 131
- «Мы счастливы, что видели их» 133
- Хроники моей жизни 136
- Содержательный труд 143
- Интересная брошюра 145
- Пособие по гармоническому анализу 146
- Музыкальный визирь 147
- Певцы печали 148
- Музыкальные репризы 148
- Из блокнота композитора 148
- Накатило! 148
- Арии костра и фонтана 150
- Скрипка и бешенство 150
- Генерал-фагот 150
- Говорят делегаты и гости III Всесоюзного съезда композиторов 151
- На съезде работников культуры 155
- Ленинградской симфонии — 20 лет 156
- На пленумах. Саратов 158
- На общественных началах 158
- Памяти Н. В. Лысенко 158
- На пленумах. Нальчик 159
- Вариола 160
- Бурятский театр оперы и балета 160
- Замечательный русский певец 161
- Для советских исполнителей 161
- Премьеры 162
- В хореографическом училище Большого театра 162
- Руководитель рабочего хора 164
- Портреты друзей 165
- Памяти ушедших. Г. В. Киладзе 166
- Памяти ушедших. Р. И. Грубер 166



