что я привык к ним с детства. Но я должен был ознакомиться ближе со строем русской народной песни по сборникам и исследованиям. Поэтому я обратился к изучению всего, что можно было найти по этой части.
Через мои руки прошли почти все не только наиболее известные, но и мало известные, чем-либо останавливающие на себе внимание исследователя сборники песенных текстов, без напевов, сборники с напевами и, наконец, исследования, начиная с работ Одоевского и Серова и кончая Фаминцыным, Сокальским и Коршем.
Самостоятельному штудированию этого разнообразного и обильного материала я посвятил не менее четырех лет. Однако всю работу по изучению и записи в этот период я производил как бы ощупью, не имея надлежащего руководства. Систематических знаний в области теории музыки я не имел. Не было у меня также образцов текста и, особенно, напевов, которым без колебаний я мог бы следовать при записях как донской, так и вообще русской песни.
В текстах предшествующих донских собирателей, даже лучших — Савельева и Пивоварова, я видел попытки литературной обработки, обычной в те времена и в области русской песни, с отбрасыванием вставок и междометий, с переработкой типичных народных выражений и оборотов. Музыкальные и «творческие» опыты «донских» собирателей Кольбе, Альбрехта, Хрещатицкого, известные к тому времени, отводили лишь еще дальше от подлинной казацкой музыки, которую я слушал в станицах.
Уже в этот начальный период своих исканий я не мог не обратить внимания на роль и место многоголосия столько же в донской казачьей, сколько в донской украинской песне, записи которой я также отдавал время. А роль эта настолько значительна и, я бы сказал, настолько первостепенна, что неотвратимо обязывала к переоценке всего того, что было в сборниках даже лучших русских музыкантов, на которых мы сами учились: Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского, редактировавшего сборник Прокунина.
Первым попал мне в руки сборник «40 русских народных песен» Балакирева (1866). Одноголосным русским мелодиям Балакиревым был придан фортепианный аккомпанемент. Сделано это было мастерски, но мало напоминало русские народные песни Орловской, Пензенской и других губерний, тогда только что мною записанные1.
Многоголосие этих простонародных песен и многоголосие балакиревского фортепианного сопровождения не имели между собой почти ничего общего. Было ясно, что многоголосие пензенской, равно как и донской песни, основано на каких-то иных принципах, отличных от принципов гармонии, лежащих в основе балакиревских аккомпанементов.
«Подголоски» Мельгунова и Пальчикова, открывшие многим глаза на действительный склад русской народной песни и положившие, можно сказать, начало пониманию основ русского многоголосия, сами по себе все же многоголосия не давали, предлагая не единовременную запись многоголосного исполнения, а лишь сводку подголосочных вариантов в виде отдельных, не связанных и не увязанных между собою мелодий.
Походило на то, что Ю. Мельгунов, предлагая теорию своих «подголосков» и даже особо выписывая их в своих, сборниках после каждой песни, сам не придает им практического значения и не склонен их держаться.
Н. Пальчиков2 казался более последовательным: никаких обработок своим шести — восьми «подголоскам» каждой песни он не дает, оставляя их неприкосновенными; но эта неприкосновенность всё же не дает многоголосной уфимской песни, а лишь внушает сомнение своей механической искусственностью.
К такого рода выводам приводили меня поиски многоголосного изложения казачьей народной песни.
Считаю нужным остановиться здесь на самом термине «подголосок» и его различном понимании и употреблении3.
Первым, употребившим этот термин в смысле «всякого голоса, сопутствующего главному», — «безразлично от того, идет ли подголосок над „главным голосом“ или под ним», был Ю. Н. Мельгунов4.
Непонятно только, почему этот серьезный исследователь-новатор решил, будто сам народ называет так различные уклонения от главной мелодии.
Наши многолетние наблюдения показывают, что народные певцы — и казаки на Дону и русские певцы в разных, упомянутых выше областях (Пензенской, Орловской, Саратовской. Московской и др.), понимают термин «подголосок» как самый верхний голос, витающий над остальными
_________
1 В начале 1900-х годов.
2 Н. Пальчиков, Крестьянские песни, записанные в Уфимской губернии; 1888.
3 Различие это впервые подчеркнуто мною в работе «Донская казачья песня» (1905), устно же в начале 1902 года в докладе на заседании Московской Музыкально-Этнографической комиссии.
4 «Русские народные песни» непосредственно с голосов записанные», 1879 (ч. 1, стр. XVII предисловия).
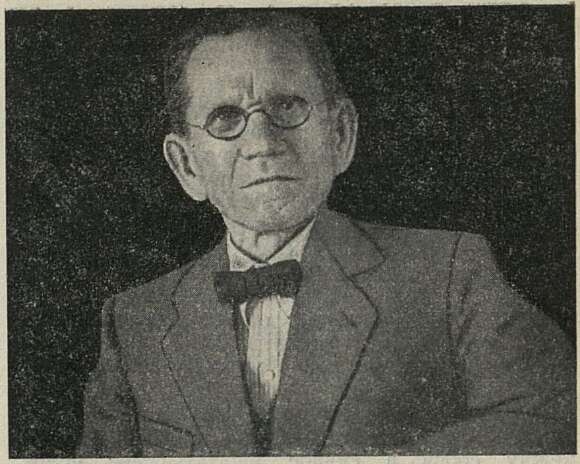
А. М. Листопадов
голос, который, по выражению казачьих певцов, «дишканит», выполняя самую верхнюю (однако не самую «главную») и нередко самую прихотливую — сложную, обычно доминирующую по высоте линию. Объяснения подголоска в мельгуновском понимании мы нигде и никогда в народе не слыхали.
Наши наблюдения не единичны. Они подтверждаются наблюдениями других собирателен, записывающих народную песню не от одного исполнителя, как делало и до наших дней делает большинство собирателей, а от коллектива исполнителей, более или менее многолюдного.
Так, Н. М. Лопатин, один из авторов «Сборника русских лирических песен»1, первого пи времени и действительно многоголосного, дающего многоголосную русскую песню, а не коллекцию отдельных, по типу Мельгунова и Пальчикова, мелодий-подголосков, не связанных между собой в единое многоголосное целое, замечает по поводу исполнения песен, что «запевала поет только запев каждого куплета, а затем он (запев) уже уничтожается могучим подхватом хора и большим количеством верхних подголосков — главных элементов красоты хорового исполнения». Н. М. Лопатин — не специалист-музыкант, а потому понятна в его устах неточность в отношении «большого» количества подголосков.
Подобное же замечание, однако более точное, делает в очерке «Украинская народная песня» П. Козицкий2 об исполнении простонародных украинских песен. Основную мелодию в них, по его словам, «обычно ведут нижние голоса — «басы», подголоски — верхний звонкий голос (обычно один), так называемый «верх», «горяк».
В предисловии к сборнику «Великорусские песни» (1904 г., вып. 1) Е. Линева, комментируя термин «подголосок» в мельгуновском понимании, пишет: «Я сохраняю название „подголосок“, как более известное, хотя в народе нередко подголоском называется только верхний голос, выделывающий разные украшения». Е. Э. Линева уже была к этому времени знакома с моим докладом в Музыкально-Этнографической комиссии в 1902 году о собирании песен на Дону, с донской казачьей песней и способами ее исполнения. «Встречается также, — продолжает она, — выражение: «петь на подголоски».
Выражение это — обычное у донских казаков; они относят его не ко всем певцам, участвующим в данном исполнении, а именно к высоким голосам и наиболее искусным песенникам, способным вести линию подголоска, как наиболее подвижную и трудную, — «брать на подголоски и выводить». Последним выражением казаки отмечают характерную особенность «подголосника»3, который должен не столько повторять мелодию нижнего голоса в верхнем регистре, сколько именно «выводить» голосом иногда довольно замысловатые мелодические фигурки (ходы), варьируя их по своему умению и разумению.
Нужно заметить, что для собирателя времен Мельгунова термин «подголосок» если и имел значение, то скорее теоретическое, нежели практическое, ибо многоголосные записи насчитывались тогда лишь единицами. Лучшими сборниками по-прежнему считались сборники Балакирева, Римского-Корсакова, Прокунина (под ред. Чайковского), — все одноголосные с фортепианным сопровождением, в основе своей чуждым народной полифонии. Многоголосия русской народной песни даже крупные наши музыканты не принимали. А. Н. Серов, автор «Рогнеды» и «Вражьей силы», прямо отрицал его. В очерке «Русская народная песня, как предмет науки» («Музыкальный Сезон», 1869 г.) он пишет, что «народный напев всегда ни что иное, как единичная одноголосная тема, — голая тема».
Н. А. Римский-Корсаков не возражал, когда на заседании Комиссии Педагогического музея в 1883 году в его присутствии было вынесено по поводу теории Мельгунова решение, что «факт полифонического народного пения, сообщенный Мельгуновым, представляется недостаточно доказанным»4.
Многоголосных сборников, кроме упомянутого выше сборника Лопатина и Прокунина, не было, а именно Н. М. Лопатин, десять лет спустя после Мельгунова, подчеркнув значение подголоска, как верхнего голоса, тем самым должен был до известной степени продолжить путь к правильному пониманию этого термина. Я говорю «должен был» потому, что заявление Лопатина осталось незамеченным, и ни один из исследователей и собирателей не остановил на нем в печати своего внимания.
Твердую почву под ногами я почувствовал в 1902 году, когда включился в работу Московской Музыкально-Этнографической комиссии Общества любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. Там я встретил внимание, помощь и направление со стороны актива комиссии, в котором состояли А. Д. Кастальский, С. И. Танеев, А. Л. Маслов, А. Т. Гречанинов, Вяч. В. Пасхалов, Е. Э. Линева, Д. И. Аракчиев (Аракишвили) и др. Это было чрезвычайно ценно и своевременно.
Вопросам многоголосия, имеющим для русской народной песни существеннейшее значение, но еще не получившим к тому времени всеобщего признания и соответствующей разработки, Московская Музыкально-Этнографическая комиссия, так же как и Петербургская Песенная комиссия Географического общества, не уделяла особого внимания. Вопросы эти не дебатировались в очередных заседаниях, но иногда подвергались продолжительному и живому обсуждению в личных беседах с Кастальским, Танеевым, Масловым и Гречаниновым. В результате у меня начало складываться убеждение, что многоголосие должно быть свойственно всем русским народным песням, если не считать специфически одноголосных, исполняемых всегда и везде одним голосом, колыбельных и причитаний (причетов).
Вот что говорит по поводу моих изысканий в области народной полифонии А. Л. Маслов в своем труде «Опыт руководства к изучению русской народной музыки» (1911): «Очень много интересных данных, в особенности для изучения
_________
1 Сборник Лопатина и Прокунина. 1889, ч. 1-я, стр. 147.
2 См. журнал «Советская музыка», № 8, 1936.
3 «Подголосником» или просто «подголоском» у донских казаков называется певец, ведущий партию подголоска.
4 См. сборник М. Е. Пятницкого «Крестьянский концерт», 1914. Предисловие Вяч. Пасхалова.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 5
- Памяти Андрея Александровича Жданова 9
- Сталинская забота о воспитании кадров 11
- На новом пути 16
- Серьезный разговор о веселом жанре 21
- К проблеме мастерства и ремесленничества 29
- О программности в музыке 36
- Больше внимания русским народным оркестрам 42
- Собирательница народных песен - Евгения Линева 48
- Автобиографические заметки 56
- Из кишиневских впечатлений 61
- Из прошлого 65
- В. Д. Поленов и музыка 69
- Из переписки Ц. А. Кюи и М. С. Керзиной 77
- По страницам печати 79
- Хроника 86
- В несколько строк 90
- Вредный суррогат искусства 93
- Австрийские музыканты обсуждают Постановление ЦК ВКП(б) 100
- Новая работа по истории русского пианизма 103
- Чтобы перейти ручеек... 110
- Батюшка мой... 113



