Вот именно — «и песня поднимает класс», как определил позднее ее роль Маяковский. Звучала эта песня не только под Москвой: пречистенцам удавалось организовывать и дальние экскурсии — по Волге, в Петербург и даже в Крым.
Хорошо говорится об этом в письме из ссылки одного из участников такой экскурсии1: «С каким удовольствием я бы по-прошлогоднему присоединился к Вам, чтобы снова ехать в вагоне, окруженный молодыми, жизнерадостными людьми, под гармоничные, сочные звуки народной песни, отдаться мечтам о далеком будущем русского народа, когда каждый может весело петь и, с радостью в душе, из окна вагона любоваться внешним видом благосостояния городов и деревень. Представьте себе, какие чудные песни будет петь тогда человек, когда он будет, — будь то пахарь или городской труженик, — черпать для выражения вдохновения музыкальные формы из сокровищницы классического искусства» (письмо от 8 апреля 1909 года).
Но было одно начинание в области вокального искусства, которое примяло серьезный характер и дало законченные результаты. Нашей молодежью заинтересовался ученик С. И. Танеева, известный в Москве музыкально-хоровой руководитель В. А. Булычев. Уже в 1903 году Танеев посвятил хору курсов цикл из 12 хоров а сареlla на слова Я. Полонского (в их числе «Прометей»), С появлением Булычева на курсах исчез любительский характер хорового кружка; в результате длительной работы (с 1911 по 1916 год) из кружка выросла настоящая капелла. Богатство молодых, свежих голосов и серьезная студийная работа дали капелле возможность выступать публично с такими ответственными произведениями, как оратория Гайдна «Сотворение мира».
1905 год разбудил непочатый край народных сил, он же вызвал приток к нам новых людей. Пришли на курсы Е. Э. Линева и ее ученица Е. Д. Денисова, активные участники организации Народной консерватории в Москве (в 1906 году), пришли с русской народной песней и музыкой, с тематическими концертами, с беседами о музыке. Е. Д. Денисова — одна из первых в Москве — донесла до рабочей аудитории всю красоту подлинной народной русской песни. Она выступала в русском простом, не театрализованном, но подлинно народном костюме и пела тепло и задушевно. Так началось знакомство рабочей аудитории с фольклором.
Тяга к слушанию музыки, желание понять, осмыслить ее, какое-то особенное своеобразно-серьезное отношение к музыке, — вот что было характерно для рабочей аудитории. Эти музыкально неграмотные люди, порой впервые слушавшие звуки рояля или скрипки, словно чутьем понимали, что музыка не «дворянства благородного увеселение», не легкое развлечение в часы досуга, а чудесная, могучая сила, воспитывающая человека. Никогда не забуду, как после одного концерта-беседы подошел ко мне рабочий и, пожимая руку, с волнением сказал: «Счастливый вы человек, товарищ Ч., — музыку понимаете, музыку чувствуете...» Вот почему таким успехом пользовались тематические концерты, со вступительным словом и конферированием программы, помогающими и неискушенному слушателю понять язык звуков. «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово, хочу правды!» — как понятны становились эти золотые слова Даргомыжского в общении с рабочей аудиторией.
Мы избегали концертов со сборной программой из номеров, ничем между собой не связанных. Обычно такая программа только утомляет и даже надоедает своей пестротой или дает мимолетное развлечение, не оставляющее следа. Единство темы было выдержано во всей программе, а, если было возможно, то и во внешнем оформлении. Так, на эстраде помещали портрет композитора или писателя, которому посвящался концерт, два-три плаката-лозунга, делалась небольшая выставка на щите с иллюстрациями, газетными вырезками и т. д. Вступительное слово давало тон всему, оно должно было быть ярко, четко и неутомительно для аудитории. Художественная часть тесно увязывалась с основной темой и, насколько возможно, строилась разнообразно: инструментальная музыка, пение, декламация, балетный номер; накопление разнообразных образов и эмоций облегчало восприятие темы. Все это сейчас кажется азбучной истиной, может быть, даже наивным примитивом. Но тогда, почти 40 лет Назад, это было исканием, новым словом. С трудом прокладывались пути-дороги «музыки в массы».
Темы проходили самые разнообразные, чаще всего связанные с литературой или историей, с подчеркиванием основной тенденции, согласованной с революционным настроением рабочей аудитории: «Пушкин в музыке», «Лермонтов», «Некрасов и Мусоргский», «Песня — голос народа», «Могучая кучка» (в связи с движением 60-х годов), «Глинка — заря русской музыки», «Мусоргский — К новым берегам!», «Чайковский и Пушкин», «Гаршин» (против войны 1914 года), «Бетховен» («Музыка должна высекать огонь из груди человека»), «Моцарт и Гайдн» и т. п.
Кто же были исполнители на этих концертах? Не надо забывать, что на Пречистенских курсах весь труд был бесплатным — и преподавателей и приглашенных исполнителей, — никаких ассигнований на культурное обслуживание рабочих не полагалось. И, так же как в области науки, здесь лучшие силы шли. в рабочую аудиторию. Побывали у нас Качалов н Собинов, Гольденвейзер, и Сибор, Д. С. Шор, Игумнов и др. С какой теплотой убеленный сединами профессор Б. О. Сибор и сейчас вспоминает «горящие глаза», которые впивались в его скрипку в глухом Нижне-Лесном переулке! Но мы не гнались за знаменитостями и равно ценили и начинающую музыкальную молодежь, и наших преподавателей, выступавших иногда с исполнением музыкальных номеров. Так, однажды заглянул на такой вечер наш молодой преподаватель истории С. М. Чемоданов (одновременно ученик К. Н. Игумнова по консерватории), что-то сыграл, что-то рассказал обступившим его слушателям. А потом стал неизменным участником и организатором тематических вечеров. Здесь истоки его будущей широко развернувшейся в советское время деятельности в области музыкального просвещения. Вот что вспоминает о его работе на Пречистенских курсах работница П. П. Никитина (сейчас — старший инженер Министерства черной металлургии):
_________
1 Адресовано преподавателю курсов С. И. Аралову.
«Незабываемое впечатление осталось от музыкальных выступлений нашего преподавателя истории С. М. Чемоданова. Он был одновременно большой мастер-пианист, посвятивший себя позднее музыкальному искусству. Советская Москва знает С. М. Чемоданова как радиокомментатора классических музыкальных произведений и как любимого молодежью лектора-музыковеда. Он проводил для слушателей курсов (1912–1914 гг.) и музыкальные лекции, в которых прекрасно знакомил рабочую аудиторию с жизнью и деятельностью мировых классиков: Чайковского, Римского-Корсакова, Шопена, Грига и др. Он знакомил нас с замыслами классических произведений, сопровождая лекции музыкальными иллюстрациями. Как историк, он умел увязывать творчество композитора с его эпохой. Такие лекции способствовали нашему более сознательному отношению к музыкальным произведениям, и опера в театре слушалась нами с удвоенным интересом»1.
Надо заметить, что для учащихся на Пречистенских курсах нам удавалось получать дешевые билеты в театры и концерты, проводились коллективные посещения совместно с преподавателями, устраивались беседы о прослушанных музыкальных программах.
Недостатком всей нашей работы была необеспеченность ее средствами и постоянными силами. Это лишало ее систематичности, но никогда не снижало ее качества: халтуры, безыдейности не знала наша рабочая аудитория.
Кто же руководил этой работой, такой многообразной и такой трудной в условиях тогдашнего времени? Не ошибусь, если отвечу: сами рабочие, но, конечно, с дружной помощью той прогрессивной части интеллигенции, которая шла работать на эти курсы. Объясняю, как понять эти слова — «сами рабочие». Особенность Пречистенских курсов заключалась в том, что сами учащиеся, начиная с 1904 года, принимали участие в организации всей работы через своих делегатов в Педагогическом совете и предметных комиссиях. Важно то, что эти делегаты от всех групп и курсов объединялись в свой Делегатский совет, выявлявший организованную волю слушателей. Таким образом, «Пречистенские курсы для рабочих» фактически были «Рабочими курсами», хотя всё это, конечно, нигде не было оформлено официально. Вот этот-то Делегатский совет, кроме участия в учебной жизни курсов, вел огромную культурно-воспитательную работу среди слушателей. И организация массовой музыкально-просветительной работы входила в обязанности одной из его секций.
Великий Октябрь развернул богатейшие возможности для этой работы, и то, что было раньше мечтой или робким опытом, расцвело пышным цветом в стенах тех же курсов, как и во всей стране.
Пречистенские курсы оставили в наследие опыт многих музыкально-просветительных начинаний, которые реализовались во всей полноте после Октября. Курсы дали кадры строителей нового коммунистического мира, выросших в их стенах. В их воспитании музыка сыграла не последнюю роль, организуя «ум, чувство и волю масс» (Ленин).
_________
1 Из сборника «Пречистенские курсы», изд. «Московский рабочий», М. 1948.
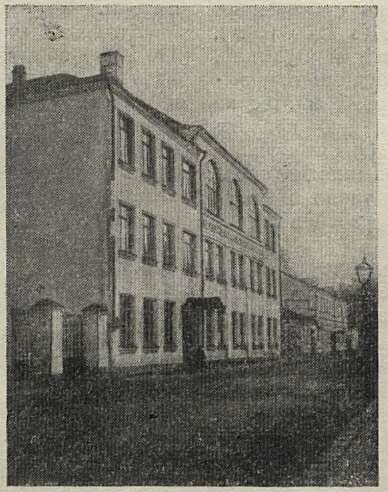
Здание Пречистенских курсов в Нижне-Лесном переулке
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 5
- Памяти Андрея Александровича Жданова 9
- Сталинская забота о воспитании кадров 11
- На новом пути 16
- Серьезный разговор о веселом жанре 21
- К проблеме мастерства и ремесленничества 29
- О программности в музыке 36
- Больше внимания русским народным оркестрам 42
- Собирательница народных песен - Евгения Линева 48
- Автобиографические заметки 56
- Из кишиневских впечатлений 61
- Из прошлого 65
- В. Д. Поленов и музыка 69
- Из переписки Ц. А. Кюи и М. С. Керзиной 77
- По страницам печати 79
- Хроника 86
- В несколько строк 90
- Вредный суррогат искусства 93
- Австрийские музыканты обсуждают Постановление ЦК ВКП(б) 100
- Новая работа по истории русского пианизма 103
- Чтобы перейти ручеек... 110
- Батюшка мой... 113



