
Н. Шаховская
класса» (как оказал польский виолончелист и дирижер К. Вилкомирский), настолько хорошо, что ко второму туру жюри сочло необходимым допустать 21 человека (восемь из СССР, пять из США, два из ФРГ и по одному из Польши, Финляндии, Чехословакии, Японии, Венгрии и ГДР). «Пришлось» увеличить и число наград победителям: вместо шести премий и двух дипломов — 8 премий и 4 диплома. Откровенно говоря, эти рамки тоже были тесноваты для талантливой молодежи, которая на конкурсе с менее высокими требованиями вполне могла бы претендовать на призовые места.
А судили о ее исполнительском мастерстве самые объективные судьи из числа светил виолончельного мира, те, чье искусство помогло нашему прекрасному инструменту занять подобающее ему место на концертных эстрадах. Назову хотя бы Мориса Марешаля, Гаспара Кассадо, Григория Пятигорского, Святослава Кнушевицкого, Даниила Шафрана. И судили строго и нелицеприятно, в прекрасной, дружной, деловой обстановке. Напряженное внимание, живая, эмоциональная реакция всегда переполненного Колонного зала еще больше подчеркивали значение работы жюри, поднимали его важность; слушатели, те, для которых
искали мы новых талантливых исполнителей, «внятно произносили» свое мнение.
Наряду с многообразием творческих индивидуальностей выступавших артистов радовало разнообразие исполняемых ими произведений.
В свое время Петр Ильич жаловался на «бедность виолончельной литературы», которую, кстати сказать, он вскоре обогатил своими замечательными «Вариациями на тему рококо», ставшими на нашем конкурсе обязательными в программе третьего тура. Много нового внесли в эту сокровищницу советские композиторы: на конкурсеисполнялись произведения Мясковского, Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, специально написанная для конкурсантов «Импровизация» Власова; из современных зарубежных композиторов, были представлены Бела Барток, Самуэль Барбер, Золтан Кодаи, Дариус Мийо, Лукас Фосс и некоторые другие, не говоря уже о классиках.
Итак, чудесный наш инструмент, который за последние десятилетия приобрел ряд совершенно новых качеств, показал себя на конкурсе во всем разнообразии: и как лирик, и как трагик, и как философ — ив виртуозном блеске, и в гротеске. Мне трудно анализировать отдельные виолон-

Л. Парнас

Н. Гутман, Гаспар Кассадо и М. Хомицер
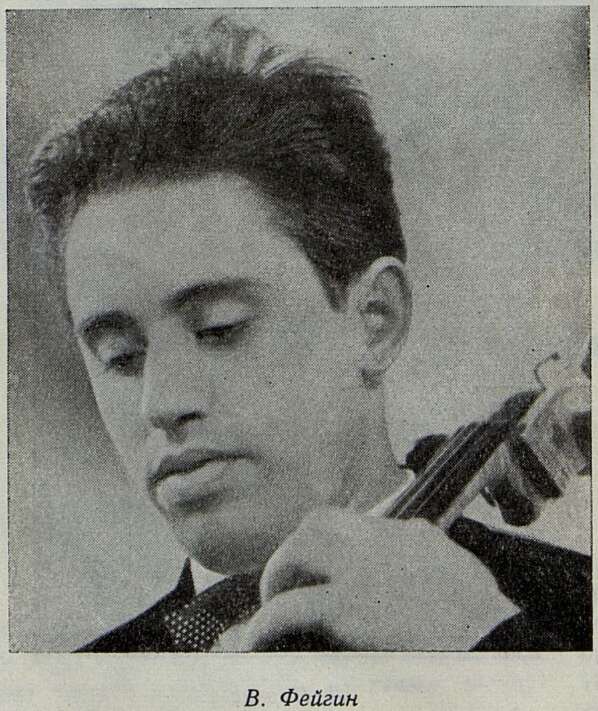
В. Фейгин
чельные школы, представленные на конкурсе. Я думаю, что благодаря интенсивному обмену лучшими исполнителями-виолончелистами, происходящему за последнее время, между ними стали стираться резкие грани. И мне кажется, что наиболее передовые виолончельные школы — советская, французская и испанская — сейчас очень сблизились. Однако нельзя не отметить все же, что в этом трудном соревновании блестящую и заслуженную победу одержала советская виолончельная школа, как и того, что первую премию (Н. Шаховская) и одну из двух вторых премий (В. Фейгин) получили исполнители, занимавшиеся в студенческие годы под руководством профессора С. М. Козолупова. Память об этом замечательном виолончелисте и педагоге бережно храним не только мы: маститый Морис Марешаль не раз вспоминал о дружбе с ним, о совместной работе в жюри конкурса им. Вигана в Праге в 1950 году (когда я, кстати сказать, находился еще в рядах не «судей», а «судимых»).
Наталья Шаховская — артистка большого таланта. Ее искусство глубоко содержательно, виолончель в ее руках звучит многокрасочно и объемно; она умеет крупную форму писать большими
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- На пути к музыкальной культуре коммунизма 5
- Трибуна съезда 31
- Выдающийся художник 46
- В. Я. Шебалин 50
- На стихи советских поэтов 55
- Спасибо, моя родная земля 58
- Тончайший музыкант, замечательный педагог 62
- Счастливая судьба 64
- Дорогой учитель, редкий человек 66
- К творческому расцвету 67
- В Белоруссии 71
- В поисках новизны 74
- За научную основательность и этическую чистоту 78
- «Укрощение строптивой» в Большом театре 84
- Герой, бунтарь, человек 92
- От «музыкальной драмы» — к опере 96
- Говорят председатели и члены жюри 100
- Говорят председатели и члены жюри 103
- Говорят председатели и члены жюри 106
- Говорят председатели и члены жюри 109
- Члены жюри и лауреаты конкурса виолончелистов 111
- Талантливый музыкант 113
- Венцы в Москве 114
- Концерт турецкой пианистки 116
- Квартет им. Лео Вейнера 117
- Новая встреча с Милошем Садло 118
- Илекский почин 119
- Поговорим о краевой филармонии 124
- Желаю Вам радости! 128
- Звучит советская музыка 130
- К двадцатилетию премьеры Седьмой в США 131
- «Мы счастливы, что видели их» 133
- Хроники моей жизни 136
- Содержательный труд 143
- Интересная брошюра 145
- Пособие по гармоническому анализу 146
- Музыкальный визирь 147
- Певцы печали 148
- Музыкальные репризы 148
- Из блокнота композитора 148
- Накатило! 148
- Арии костра и фонтана 150
- Скрипка и бешенство 150
- Генерал-фагот 150
- Говорят делегаты и гости III Всесоюзного съезда композиторов 151
- На съезде работников культуры 155
- Ленинградской симфонии — 20 лет 156
- На пленумах. Саратов 158
- На общественных началах 158
- Памяти Н. В. Лысенко 158
- На пленумах. Нальчик 159
- Вариола 160
- Бурятский театр оперы и балета 160
- Замечательный русский певец 161
- Для советских исполнителей 161
- Премьеры 162
- В хореографическом училище Большого театра 162
- Руководитель рабочего хора 164
- Портреты друзей 165
- Памяти ушедших. Г. В. Киладзе 166
- Памяти ушедших. Р. И. Грубер 166



