это, а мощное дерево с глубоко зацепившимися за землю, в ее глубь ушедшими корнями. Этой стороной, и очень существенной стороной шебалинской художественной природы, его музыка сочетается и с главными сторонами бородинского характера (с поэтикой темного леса и степи, чреватой неожиданностями, — степи набегов), и с Мусоргским, с его преломлением народноэпического в драме народа.
Когда в сочинениях Шебалина звучат сумрачные настроения, нет опасений за его творческое мужество: тут сказывается просто человеческая, временная, от душевной усталости, зябкость. Иронические же страницы внушают боль: не игра ли это в прятки с сердцем? Но тотчас возникает мысль: нет ли и тут наличия серовского «ума холодных наблюдений», «ума большого сердца»? Тогда, значит, в Шебалине есть та же трезвость сознания, которая вела за «руку» художника, за умную «руку» художника Серова в его рисунках к басням Крылова. Думается, что так.
И как у Серова вдруг за всеми стенами, какими он огораживает от людей свое личное, песни своего сердца, пробуждается родное, русское, именно сердечное в его живописи деревенских впечатлений (избы, сараи, луга, мальчишка с дровнями) и русской природы, так и в Шебалине время от времени «пробивается» чуткий лиризм, сдержанный, а в лучших своих страницах душевно-мудрый (это и в камерной инструментальной музыке, и в вокальных циклах).
Не потому ли я так глубоко люблю и ценю шебалинскую триаду Фортепьянных сонатин, что в ней, словно в зеркале, отражены разнообразные стороны художественного характера композитора, вызывая к себе чувство глубокой симпатии за серьезность внутренних «борений ума и сердца». А без них, на мой взгляд, художник не художник и искусство не искусство, а трактат об искусстве. За прочной броней академического мастерства и суровостью почерка музыки Шебалина все-таки слышны волненья в его «там-внутри». Это — нерв музыки, это пульсирует, как и у Танеева (вспомним романсы и музыкальнейшие страницы струнных квартетов), чуткое трепетное чувство насыщенной искусством души. Несмотря на все «брони», и Танеева, и Шебалина нельзя себе представить в жизни вне музыки. Несмотря на всю культуру интеллектуализма, оба они немыслимы без эмоционально-образного выражения их мыслей и дум в искусстве, каким является музыка, потому что их интеллектуализм не живет вне сердца, вне жизни чувства.
Я выше указал на широкие пути в музыкальной природе Шебалина, на имеющиеся в его музыке черты, солидарные таковым же у Бородина и Мусоргского, особенно на драматизированное, пафосное преломление эпического стиля. Так, в Шебалине сквозь универсализм его мастерства проявляется живое ощущение русско-народного сознания и понимание «драмы народа». Называя из русских классических композиторов Мусоргского, я нисколько не считаю Шебалина адекватным явлением. Во-первых, нет у него присущего Мусоргскому импровизационно-импрессивного, момент за моментом, характерное за характерным, мышления. Тут иной полюс, и Шебалин — убежденнейший «логист» музыки. Во-вторых, глубокое различие «психических типов». По моему убеждению, в Шебалине, во всей природе его лежит суриковокое мироощущение и суриковское большое сердце, а с тем вместе и драматизированное постижение мощного эпического искусства и склонность к фресковым масштабам музыки, к картинности (не в смысле симфонических картин, то есть не с позиций программной музыки). Потому я и продолжаю упорно верить, что настала пора симфоническим кантатам и ораториям, «русскому генделианству» Шебалина. Там и развернется в музыкально-фресковых масштабах путь деяний народа (народное действование). <...>
<...> Главное — в «большом суриковском сердце» и вытекающих отсюда качествах сочной, полнокровной, волевой «музыкальной кисти» Шебалина и присущей его крупным произведениям силе и широте дыхания. Сошлюсь тут на один пример для наглядности — на глубоко впечатляющую меня первую часть Второй шебалинской симфонии, с незабывающимся никогда ее заключительным andante non tropро maestoso е cantabile.
Может быть, мое ощущение крайне субъективно, но виновата музыка, вызывающая своей экспрессией ряд многогран-
ных впечатлений и мыслей: вступающие после tutti fff кларнеты (pianissimo на выдержанной октаве валторн) и подхватывающей их интонацию монологирующего кларнет-баса, мысль которого завершают тромбоны на фундаменте Cis (tuba, timpano) тут — подсказывают воображению живописный образ: трагическую фигуру Меньшикова в замечательнейшей своей тишиной суриковской картине!..
Кстати сказать, экспрессивность инструментовки Шебалина обнаруживает в нем драматурга-симфониста в мастере «философической симфонии», и вот в таких моментах глубочайшего душевного сосредоточения оркестр его начинает художественно мудро мыслить пластикой фраз-контуров и пластикой ясных гармоний. В «громких» пафосных моментах Шебалин не всегда в состоянии освободиться от перегрузки и
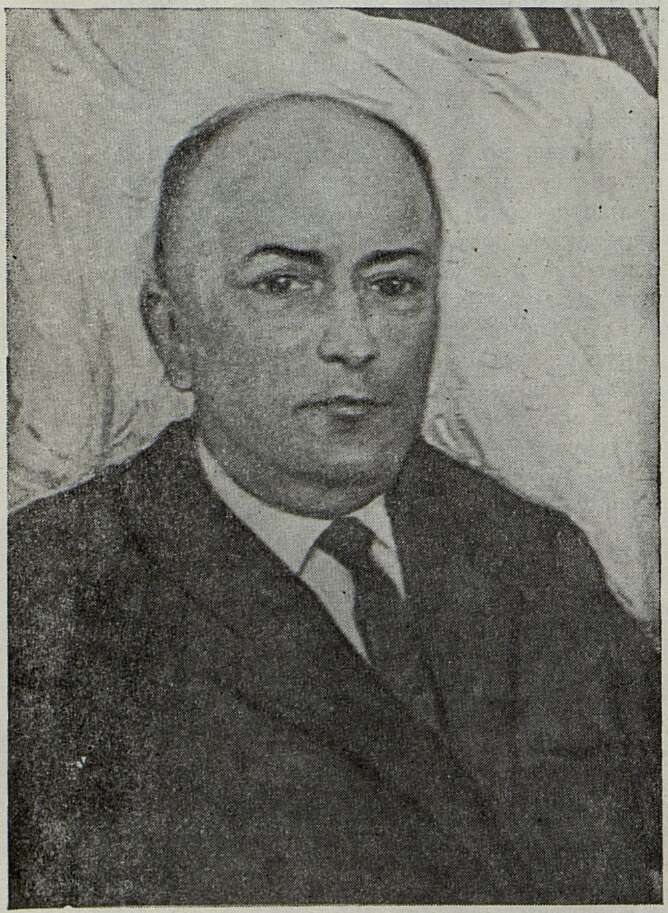
Рис. И. Глазунова
«ваты напластываний», а также от слуховых аберраций, свойственных многим современникам: будто кричащие интонации предельных регистров голоса или инструментов в состоянии своим надрывом — при частом прибегании к этому приему — вызвать ощущение силы. Тоже заблуждение... Как бывает «слепота» даже у выдающихся художников, так и своеобразная «глухота» у музыкантов с отличным «линейным», голосоведческим слухом. За данной оговоркой, инструментовка Шебалина доставляет в силу своей интонационной экспрессии много ценных находок, ибо в ней, конечно, также живет его всегда артистически сосредоточенная мысль, не допускающая никаких «зря»...
Этой артистической одухотворенностью невольно любуешься и в камерной музыке Шебалина. Можно заговорить даже об «этической красоте художественного мастерства» в отношении композиторов такого порядка и строя мышления — и заговорить именно в аспекте примата содержания. Бесспорно: мастерство только как «интеллектуальное изощренчество» — фальшивые бриллианты, но этос мастерства — сущность всякого истинного художества, и в нем художественное оправдание творчества, превращающее просто способности — к образному «себявысказыванию» в искусстве. Когда произведения искусства вызывают своей художественной убедительностью беспокойство мысли, а не глотаются наслажденчески пассивно, — не значит ли это, что в них наличествует этическое отношение мастера к своему делу и к мастерству не как к самоцели. <...> Вот в таком аспекте его музыка сильнее, чем чья-либо из современных композиторов, побуждает задуматься над смыслом мастерства и формы. Как осуществляет Шебалин тот или иной замысел, никогда не проходит мимо сознания внимательного слушателя. Тут снова встают в памяти имена Серова и Сурикова.
Суриковским в Шебалине являются прочность, «крепчина», основательность его музыки (не в смысле прочности конструкций) и ее плотность — отсутствие «мертвой воды», то есть того, что «связующие» мостики, ходы, переходы обычно изобильно привносят в развитие. Конечно, ходы и переходы, как им полагается быть по схемам формы, имеются, но Шебалин уме-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- На пути к музыкальной культуре коммунизма 5
- Трибуна съезда 31
- Выдающийся художник 46
- В. Я. Шебалин 50
- На стихи советских поэтов 55
- Спасибо, моя родная земля 58
- Тончайший музыкант, замечательный педагог 62
- Счастливая судьба 64
- Дорогой учитель, редкий человек 66
- К творческому расцвету 67
- В Белоруссии 71
- В поисках новизны 74
- За научную основательность и этическую чистоту 78
- «Укрощение строптивой» в Большом театре 84
- Герой, бунтарь, человек 92
- От «музыкальной драмы» — к опере 96
- Говорят председатели и члены жюри 100
- Говорят председатели и члены жюри 103
- Говорят председатели и члены жюри 106
- Говорят председатели и члены жюри 109
- Члены жюри и лауреаты конкурса виолончелистов 111
- Талантливый музыкант 113
- Венцы в Москве 114
- Концерт турецкой пианистки 116
- Квартет им. Лео Вейнера 117
- Новая встреча с Милошем Садло 118
- Илекский почин 119
- Поговорим о краевой филармонии 124
- Желаю Вам радости! 128
- Звучит советская музыка 130
- К двадцатилетию премьеры Седьмой в США 131
- «Мы счастливы, что видели их» 133
- Хроники моей жизни 136
- Содержательный труд 143
- Интересная брошюра 145
- Пособие по гармоническому анализу 146
- Музыкальный визирь 147
- Певцы печали 148
- Музыкальные репризы 148
- Из блокнота композитора 148
- Накатило! 148
- Арии костра и фонтана 150
- Скрипка и бешенство 150
- Генерал-фагот 150
- Говорят делегаты и гости III Всесоюзного съезда композиторов 151
- На съезде работников культуры 155
- Ленинградской симфонии — 20 лет 156
- На пленумах. Саратов 158
- На общественных началах 158
- Памяти Н. В. Лысенко 158
- На пленумах. Нальчик 159
- Вариола 160
- Бурятский театр оперы и балета 160
- Замечательный русский певец 161
- Для советских исполнителей 161
- Премьеры 162
- В хореографическом училище Большого театра 162
- Руководитель рабочего хора 164
- Портреты друзей 165
- Памяти ушедших. Г. В. Киладзе 166
- Памяти ушедших. Р. И. Грубер 166



