ИЗ КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ
НА СИМФОНИЧЕСКИХ КОНЦЕРТАХ
В январе центральным событием музыкальной жизни столицы явились гастроли симфонического оркестра Бухарестской филармонии. Это — первоклассный коллектив, радующий высоким уровнем художественной культуры, ансамблевой сыгранностью и безупречной чистотой строя. Компактно и мягко звучит медная группа, превосходно показавшая себя в симфониях Франка и Хачатуряна и в Первой симфонии Брамса; хороши группа деревянных (отметим хотя бы начало «Пиний Рима» Респиги или чудесное соло гобоя в Симфонии Франка), а также ударники, особенно литаврист. Однако наиболее сильная группа оркестра — струнники. С какой теплотой и эмоциональной насыщенностью тона прозвучали скрипичные мелодии в Симфонии Брамса, соло виолончелей во второй части Симфонии А. Хачатуряна или унисон всех смычковых в первой части Сюиты Д. Энеску! Полное единство штрихов позволяет бухарестским скрипачам выполнять с виртуозной отточенностью пассажи — самые стремительные по темпу, самые прихотливые по очертаниям. В «токкатных» эпизодах финала хачатуряновской Симфонии точная вычерченность рисунка моментами создавала иллюзию, будто перед слушателями один артист, с блеском играющий трудную сольную партию.
Дирижер Д. Джорджеску в свои предыдущие приезды завоевал прочные симпатии москвичей, тепло вспоминающих его интерпретацию, например, Второй симфонии Брамса или Седьмой — Бетховена. И на этот раз дирижер подтвердил свою репутацию талантливого и серьезного художника. В двух его программах наиболее глубокое впечатление произвела Вторая симфония Хачатуряна. Д. Джорджеску трактует ее по-своему, подчеркивая не столько страстную эмоциональность (здесь дирижера можно было бы упрекнуть даже в излишней сдержанности), сколько начало героическое. Особенно интересна была третья часть. В первые мгновения темп показался непривычно ускоренным, подумалось, что звучанию в целом недостает весомости. Но вскоре выяснилось, что дирижер прав. Не тяжесть скорби, но негодующая сила гнева — вот что прежде всего раскрыл Д. Джорджеску в этой картине траурного шествия. И в финале Симфонии у дирижера на первом плане не воспевание радости.
Пример
Д. Джорджеску
Дружеский шарж Ф. Дейн
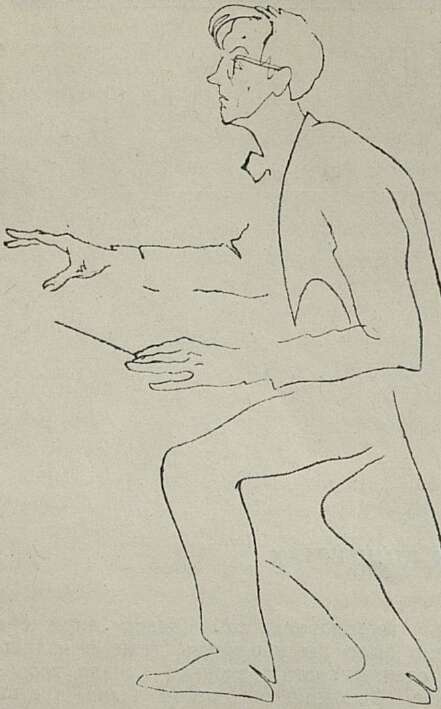
М. Басараб
Дружеский шарж Ф. Лейн
а героика, могучее нарастание, так логично приводящее к заключительному звучанию колокола, — глубокое и умное толкование замечательного сочинения.
С редким совершенством провел Д. Джорджеску и «Тиля Эйленшпигеля» Штрауса — непринужденно и пластично, с остро характерной «колючестью». В пределах, в сущности, одного круга образов дирижер развернул сверкающую остроумием галерею музыкальных картин. Первую симфонию Брамса он исполнил серьезно и благородно, местами очень поэтично. Но все же в целом это был Брамс несколько академизированный, излишне сдержанный; не хватало «широкого жеста», драматической патетики.
У Д. Джорджеску ясный и спокойный жест, он дирижирует всей рукой, свободной в своих движениях. Но в «Ученике чародея» Дюка эти превосходные качества скорее помешали дирижеру. Здесь более уместна кистевая техника, ибо при дирижировании всей рукой ритмическая пульсация теряет свою заостренность, исполнение становится рыхлым.
Второй дирижер бухарестского оркестра — М. Басараб — сравнительно еще молод (он впервые встал за пульт только в 1948 г.). Это — чрезвычайно одаренный музыкант, наделенный пламенным темпераментом, способностью самозабвенно отдаваться своему искусству. В Симфонии Франка его трактовка была хороша, но в общем привычна. Однако уже в Концерте для струнного оркестра П. Константинеску, особенно в яростно моторном финале, обозначились выдающиеся достоинства дирижера, а исполнение «Пиний Рима» — едва ли не одно из лучших когда-либо слышанных нами. С какой нарядностью проводит М. Басараб первую часть «Пиний», какими тонкими красками напоена его интерпретация третьей части, как грандиозно звучит у него финал! Длительное, постепенное и неуклонное нарастание звучностей — от «шопота» до громового fortissimo, смены колорита — от предутреннего сумрака до ослепительно яркого солнечного блеска, образная выразительность произвели незабываемое впечатление. С таким же неистовым огнем дирижер и оркестр исполнили на бис «Танец» румынского композитора Т. Рогальского.
Первая сюита Д. Энеску, изощренная по технике письма и эмоционально очень напряженная, осталась не вполне ясной по замыслу (к сожалению, в печатных программах не было хотя бы кратчайших аннотаций). Бесхитростно искренней показалась сюита «Западные Карпаты» одного из старейших музыкантов Румынии М. Негря. Концерт для струнного оркестра П. Константинеску написан мастерски, но в его музыке рациональное начало явно преобладает над эмоциональной непосредственностью.
*
Из творческого наследия Р. Штрауса у нас исполняются лишь две-три симфонические поэмы; для большинства слушателей написанная более полувека тому назад «Sinfonia domestica» оказалась новинкой. Между тем, это произведение ярко воплощает неистощимую изобретательность Штрауса, его способность к созданию метких музыкальных характеристик, его оркестровое мастерство. Попытка Штрауса симфоническими средствами «описать» обыкновенные сутки в жизни обыкновенной семьи — единственная в музыкальной литературе.
Музыка Симфонии, при всей изысканности, проста и доходчива. В «Domestica» немало страниц, привлекающих искренностью, живостью, легким сарказмом, а главное, своеобразием творческого почерка, напоминающим о «Дон Жуане» и «Тиле».
Исполнение этой труднейшей партитуры — значительная удача Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и А. Гаука. «Domestica» прозвучала рельефно и выразительно. Дирижер сумел добиться ласковости колорита в передаче музыкального «портрета» ребенка, нежности, а местами и яркой темпераментности в третьей части Симфонии — «Ночь», образ

А. Гаук
Рис. Б. Десницкого
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Опера и современность 5
- «Тропою грома» 14
- Балет о венецианском мавре 24
- Краткие замечания об Одиннадцатой симфонии 35
- На пути освоения героической темы 42
- Сергей Прокофьев 50
- 7. С. Прокофьев на отдыхе 58
- Музыка к фильму «Иван Грозный» 60
- Встречи с Прокофьевым 67
- Из архива композитора 73
- О перспективах народного творчества в СССР 79
- Героический балет 87
- На спектаклях опереточных театров 93
- «Орлеанская дева» в Свердловском театре 97
- Дирижер и певец 100
- Мария Гринберг 107
- Конкурс скрипачей в Познани 109
- О некоторых вопросах музыкального образования 111
- Заметки о чтении с листа 114
- На симфонических концертах. — Камерные вечера. — Выступления пианистов. — Молодые скрипачи. 117
- Перед грузинской декадой 125
- В Малом зале Ленинградской филармонии 126
- Гастроли в Литве 126
- Армянская музыка сегодня 128
- Успехи харьковских композиторов 131
- Белорусский хор 134
- Юго-Осетинский композитор Б. Галаев 135
- Письмо из Мурманска 136
- Художественная исповедь двух композиторов 138
- Музыка современной Греции 144
- Корейские впечатления 147
- Музыкальный сезон в Париже 150
- Реплики и факты 152
- Конкурс имени Джордже Энеску 154
- Новая книга о Верди 155
- Монография об Антоне Рубинштейне 157
- Путеводитель по симфониям Мясковского 160
- Нотографические заметки 161
- Хроника 165



