ВЫСТУПЛЕНИЯ ПИАНИСТОВ
Сергей Доренский привлекает симпатии своеобразием исполнительской манеры. Широкий размах, крупный штрих дополняется в его игре задушевностью, тонким ощущением тембровой многокрасочности фортепьяно, подлинным «пульсом молодости».
Первая часть Сонаты Шопена си-бемоль минор прозвучала насыщенно и драматично; в скерцо пленила мягкая звучность среднего эпизода; сосредоточенно и глубоко был сыгран траурный марш. Вот только финал, к сожалению, «не вышел». Здесь не было «безотрадного свиста и воя ветра над могилой погребенного», все оказалось слишком «весомо, грубо, зримо», и это разрушило цельность гениального цикла. Многое удалось в «Лунной сонате» — трепетная романтичность первой части, горячность, стихийная сила финала. В средней части исполнитель, видимо, еще не нашел светотеней, составляющих очарование этой тончайшей музыки. Хорошо играет С. Доренский Шестую сонату Бетховена, умно раскрывая конфликтность Allegro, эмоциональную теплоту Allegretto, чуть моцартовскую полетность Presto.
Колоритно «прочтена» была «Виселица» Равеля. В равелевской Сонатине органично прозвучали первые две части, в финале же слишком плотный звуковой поток, прямолинейность динамики помешали раскрыть причудливое очарование пьесы. Большей полетности, свободы хотелось бы услышать в пьесах Шумана (соч. 12).
Сверх программы пианист очень хорошо исполнил Этюд ля-бемоль мажор и Мазурку фа минор Шопена, нашел интересную игру тембров в «Танце огня» Де Фалья и Токкате бразильского композитора Санторро. Концертная жизнь молодого артиста только начинается. Можно надеяться, что прекрасная школа (С. Доренский — ученик Г. Гинзбурга) в сочетании с яркой, самобытной талантливостью будут способствовать его дальнейшим успехам.

С. Доренский
Рис. Б. Десницкого
*
В одном из камерных концертов Марина Слесарева сыграла «Картинки с выставки» Мусоргского. Очевидно, произведение это вне пределов излюбленного репертуара пианистки. По исполнению «Старого замка», «Катакомб» и, частично, «Тюильри» можно предположить, что М. Слесаревой ближе лирика, созерцательность. Жанровая сочность образных характеристик «Картинок» не получила у нее отклика. Исчезла гротесковая заостренность «Гнома», яркость сопоставления «Двух евреев», красочность «Лиможского рынка». Тускло прозвучали «Балет невылупившихся птенцов» и «Баба-Яга». Не было мощи в величественном апофеозе «Богатырских ворот».
*
Программа концерта Натана Перельмана включала произведения старинной музыки, от Уильяма Берда до Ф. Э. Баха и, — что характерно, — в исполнении отсутствовала нарочитая стилизация, музейность. Это была живая музыка, чутко отражающая биение человеческого сердца. Отметим исполненную просто и проникновенно Сонату Солера, известную москвичам по тонкой передаче М. Неменовой-Лунц.
Необыкновенно изящно и нежно сыграл Перельман Куранту и Гавот Люлли, «Маленькие ветряные мельницы» Куперена; убедительное исполнение чудесных пьес Ф. Э. Баха показало, что они не только займут должное место в «исторических концертах», но и украсят программу любого фортепьянного вечера. Хорошо прозвучали «Крестьянка» Рамо, а также две сонаты Скарлатти (до минор и си минор).
Н. Перельман проявил себя художником ищущим, творчески активным, поистине увлеченным исполняемой музыкой.
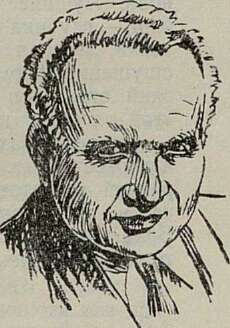
П. Перельман
Рис Б. Теддерса
*
Высокое мастерство и замечательную свежесть интерпретации продемонстрировал в своем очередном выступлении Лев Оборин. Его светлому искусству близок Моцарт, и потому в исполнении Концерта до минор так органично ощущались прозрачная ясность формы, а в Andante — трогательная моцартовская поэтичность.
Столь же тонко чувствует Л. Оборин музыку Прокофьева — как «классическую» и «моторную» линии его творчества, так и созерцательную лирику. Третий концерт — признанное творческое достижение Л. Оборина; когда-то им он блестяще кончал Консерваторию, но и сейчас, спустя тридцать лет, характер исполнения Концерта не утратил молодости и юного озорства. И в упругой, чеканной главной партии Allegro, и особенно в финале ощущалась буйная русская удаль. Этим эпизодам чудесно контрастировала прекрасная лирика побочной партии, изящное остроумие Andantino и особенно мелодическая широта и сочность meno mosso в финале. Могучая сила прокофьевской музыки была великолепно передана пианистом.
В первый раз сыграл Л. Оборин «Симфонические вариации» Франка. И здесь ли

Л. Оборин
Рис. Б. Теддерса
рическая душа пианиста, его богатая звуковая палитра нашли полноценное воплощение. С тем особенным «нервом», который отличает музыку Франка, прозвучала тема. Широкое дыхание, возвышенность эмоций сохранялись на всем протяжении пьесы. Преодоление технических трудностей нигде не заслоняло взволнованного рассказа исполнителя.
Это был замечательно удачный, на большом творческом подъеме проведенный концерт. Хорошо аккомпанировал Государственный симфонический оркестр СССР под управлением К. Кондрашина.
*
25 января торжественным концертом в Большом зале Консерватории было отмечено двадцатипятилетие артистической деятельности Марии Гринберг. Пианистка в сопровождении Гос. симф. оркестра СССР под управлением К. Элиасберга исполнила фа-минорный Концерт Баха, Третий концерт Бетховена и Третий концерт Рахманинова. Лучшие черты дарования М. Гринберг — глубина и содержательность трактовки, мудрая простота и ясность, тонкое ощущение формы и внутренний артистический огонь — в полной мере проявились в этой сложной программе.
Концерт Баха был сыгран очень строго и мужественно. Пианистка с большой внутренней сосредоточенностью провела первую часть. Во второй части — Largo — лирика Баха была воплощена вдохновенно и поэтично. Динамично прозвучал финал.
Третий концерт Бетховена — одна и? вершин репертуара М. Гринберг. Лучше всего она исполнила первую часть, С большим внутренним драматизмом и вместе с тем свободно и непринужденно.
Интересно, по-своему, отступив от сложившихся канонов, играет М. Гринберг Третий концерт Рахманинова. Как бы «снимая» активные, волевые настроения первой части, она придает и главной партии лирический повествовательный характер. Пианистка не увлекается любованием красками, томной гармонией в контрастирующих главной партии сочных, типично рахманиновских эпизодах и трактует их сквозь призму основной лирико-элегической темы. В разработке она достигает драматического напряжения огромной силы. Лирические интонации приобретают трагедийный характер. И сразу чувствуется, что за внешней сдержанностью, строгостью ее исполнение скрывается горячая артистическая душа. Интермедии финала (например, ми-бемоль-мажорный эпизод) нашли столь совершенное звуковое воплощение, что вспомнилась, чудесная фортепьянная лирика одного из учителей М. Гринберг — К. Н. Игумнова.
Публика, переполнившая Большой зал консерватории, сердечно приветствовала пианистку, снискавшую за годы своей творческой деятельности горячие симпатии слушателей.
Не вполне удовлетворило оркестровое сопровождение. Если в Концерте Рахманинова вполне хорошо был сыгран аккомпанемент, то в Концерте Бетховена он прозвучал весьма бледно и худосочно, а в Концерте Баха исполнялся явно врозь с солисткой (особенно в финале).
Л. Живов
МОЛОДЫЕ СКРИПАЧИ
Свое выступление в Большом зале Консерватории (12 января) Игорь Безродный начал с Сонаты соль минор Баха для скрипки соло. Такое начало программы требует от исполнителя большого присутствия духа. Нелегкая задача открывать концерт в громадном зале, стоя в одиночестве перед органом; борясь со своим волнением, — завоевывать внимание слушателей музыкой, которая не может быть причислена к разряду «доходчивой» или эффектной... И. Безродный с честью вышел из трудного испытания и оправдал звание лауреата Баховского конкурса. Можно оспаривать его темпы Adagio или фуги (мне фуга показалась немного торопливой), но нельзя отрицать хорошую звучность, особенно в Adagio и Сицилиане, безупречный вкус, который, кстати сказать, является отличительным свойством этого скрипача.
За последние годы И. Безродный очень вырос, его исполнительские замыслы стали убедительнее; совершенствуется его мастерство владения смычком, в игре появилось больше звуковых красок.
Сонату фа минор С. Прокофьева И. Безродный играл несколько лет тому на зад. Теперь он нашел в ней новые краски, добился органической связи между частями. Лирично и обаятельно прозвучала третья часть. А. Макаров, который играл буквально «единым дыханием» со скрипачом, нигде не заглушал партнера, не стремился выдвинуться на первый план.
Горячо и вдохновенно сыграл И. Безродный Поэму Шоссона. Добиваясь разнообразия красок, он применил здесь другое vibrato, дающее более взволнованное звучание. «Хаванез» Сен-Санса впервые фигурировала в программе артиста, и чувствова
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Опера и современность 5
- «Тропою грома» 14
- Балет о венецианском мавре 24
- Краткие замечания об Одиннадцатой симфонии 35
- На пути освоения героической темы 42
- Сергей Прокофьев 50
- 7. С. Прокофьев на отдыхе 58
- Музыка к фильму «Иван Грозный» 60
- Встречи с Прокофьевым 67
- Из архива композитора 73
- О перспективах народного творчества в СССР 79
- Героический балет 87
- На спектаклях опереточных театров 93
- «Орлеанская дева» в Свердловском театре 97
- Дирижер и певец 100
- Мария Гринберг 107
- Конкурс скрипачей в Познани 109
- О некоторых вопросах музыкального образования 111
- Заметки о чтении с листа 114
- На симфонических концертах. — Камерные вечера. — Выступления пианистов. — Молодые скрипачи. 117
- Перед грузинской декадой 125
- В Малом зале Ленинградской филармонии 126
- Гастроли в Литве 126
- Армянская музыка сегодня 128
- Успехи харьковских композиторов 131
- Белорусский хор 134
- Юго-Осетинский композитор Б. Галаев 135
- Письмо из Мурманска 136
- Художественная исповедь двух композиторов 138
- Музыка современной Греции 144
- Корейские впечатления 147
- Музыкальный сезон в Париже 150
- Реплики и факты 152
- Конкурс имени Джордже Энеску 154
- Новая книга о Верди 155
- Монография об Антоне Рубинштейне 157
- Путеводитель по симфониям Мясковского 160
- Нотографические заметки 161
- Хроника 165



