горжусь своими выдающимися учениками: А. Мелик-Пашаевым, Е. Мравинским, безвременно погибшим Е. Микеладзе, Э. Грикуровым, внезапно ушедшим от нас М. Тавризияном и многими другими моими товарищами по искусству, ставшими активнейшими строителями советской музыкальной культуры.
За годы революции у нас сложились свои исполнительские традиции. Бережно относясь к эстетическим заветам классиков, мы научились смело отрешаться от догм и отбрасывать то, что оказалось отжившим и чуждым нашей действительности. По-новому почувствовали мы силу и жизненность музыки Баха, Моцарта, Бетховена. В исполнении русской классики с новой силой зазвучали глубина и возвышенность чувств, широта идейного содержания, народность и оптимизм.
Не могу забыть, как путиловские рабочие требовали в 30-е годы исполнения произведений Чайковского. Во время войны началась новая жизнь симфонизма Чайковского; такие произведения, как Четвертая симфония и Первый фортепианный концерт, стали подлинно массовыми, а Торжественная увертюра «1812 год» ответила патриотическому подъему советского народа.
А как по-новому зазвучало в наши дни наследие Рахманинова! Какое свежее ощущение русской эпической старины в Первой симфонии, какой трагизм высказывания художника, оторванного от родины, в его последних симфонических произведениях. В наши дни вновь обрели жизнь многие незаслуженно забытые произведения Глинки и Рахманинова. На мою долю выпала радость принять участие в работе по их восстановлению.
Все виды музыкального искусства, любимые народом, пользуются у нас равным вниманием и уважением. Для меня совершенно естественным было то, что накануне сорокалетия Октября я одновременно работал над партитурами Шестой симфонии Шостаковича, Девятой Бетховена и готовил песни советских композиторов для предстоящего народного торжества в Лужниках.
Наша страна сохранила и развила традиции мировой симфонической культуры. Но я часто думаю о том, что мы отстаем от запросов народа, что число имеющихся у нас высококвалифицированных симфонических коллективов далеко недостаточно. Предстоит еще многое сделать.
В моей обширной многолетней деятельности я постоянно ощущал благотворное внимание и заботу нашей партии и народа.
* * *
Иван Ершов
С. Левик
Иван Васильевич Ершов (1867–1943) — один из самых ярких артистов русской оперы — десятилетиями изумлял слушателей титанической силой своего таланта. Выросший в нищете, «кухаркин сын», он преодолел громадные трудности, пока окончил железнодорожное училище и получил должность помощника машиниста.
Россия 80-х годов не знала рабочей художественной самодеятельности. Ершов, рано обнаруживший певческий талант, пел где только придется. Нашлись добрые люди, которые обучили его музыкальной грамоте, другие — устроили концерт и на собранные деньги отправили его в Москву. Его приняли в консерваторию, о нем узнал А. Рубинштейн, — и это решило его судьбу. Придя к Рубинштейну, молодой певец вдохновенно исполнил песни Шуберта. Тогда же Рубинштейн горячо порекомендовал ему перевестись в Петербургскую консерваторию. Здесь Ершов учился превосходно; вначале он получал обычную консерваторскую стипендию, а затем «высшую», учрежденную Н. Фигнером.
По отзывам профессуры, тенор у него был лирический, «способный к энергическому выражению и, вместе с тем, к передаче мягкой, ласкающей, полной искренней сердечности».
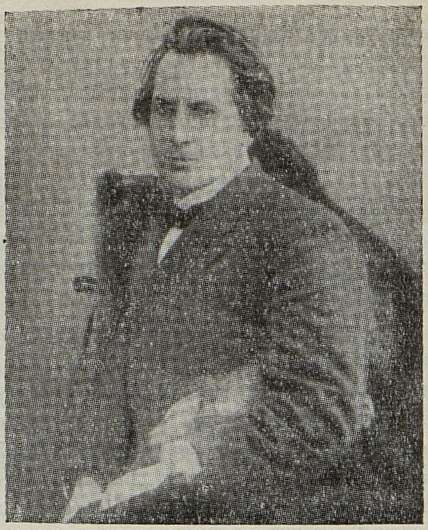
И. Ершов (1897 г.)
Ершов окончил консерваторию с отличием и успешно дебютировал в Мариинском театре. Затем он уехал в Италию, где сразу же выдвинулся, и спустя два года возвратился в Россию — сначала в Харьков, а через год в Мариинский театр, чтобы больше с ним не расставаться.
Голос у Ершова был воистину выдающийся и прежде всего беспредельный по диапазону, причем его мощь и металлическая звонкость ни в какой мере не зависели от тесситуры.
Исполнитель труднейших драматических и характерных партий, Ершов был тенором «сильным», героическим и одновременно «легким». Особенно же в первые пятнадцать — двадцать лет своей оперной деятельности он с неповторимой легкостью преодолевал любые трудности, демонстрируя блестящее владение вокальной техникой.
И только тембр ершовского голоса был небезупречен — несколько зажатый, горловой, он оставался, по существу, единственно уязвимой чертой ершовского искусства.
Учителями Ершова были крупнейший русский педагог-вокалист Станислав Иванович Габель (ученик и преемник Эверарди) и знаменитый Росси, у которого Ершов занимался в Италии. Теперь уже трудно установить, в какой мере «зажатость» ершовского тембра была природной, неосторожно привитой или сознательно игнорируемой мудрыми педагогами (как в свое время и Эверарди, они остерегались «снятием горла» испортить голос певца). Об опасности таких экспериментов я неоднократно слышал от многих выдающихся артистов. Видимо, такова была ершовская природа; в пределах ее возможностей великий певец отлично знал, что делает. Первоклассный вокалист, чудесный артист и опытный педагог И. Тартаков, много лет наблюдая за своим соратником, считал, что Ершов «поет правильно».
Диапазон ершовских тембров был так же беспределен, как разнообразны были его чувства. И потому так нежно и поэтично звучал в его исполнении романс Иоанна Лейденского («Пророк» Мейербера), так мрачно и заостренно — «Полководец» Мусоргского, так презрительно, издевательски — песни Хлопуши («Орлиный бунт» А. Пащенко), так победно-радостно, восторженно — восклицания Зигмунда и Зигфрида, так страдальчески — вопли Гришки Кутерьмы («Сказание о граде Китеже»), отчаянно-испуганно и в то же время устрашающе — последняя реплика Ирода («Саломея»): «Убейте эту женщину»; лукаво-иносказательно — куплеты о Клейнзаке («Сказки Гофмана»), трогательно и в то же время солнечно-вдохновенно — дуэт с Зиглиндой («Валькирия»).
Неисчерпаемо было умение Ершова тембровыми красками раскрывать всю душу своих героев, их затаенные страдания и надежды, любовь и ненависть, радость и горе, притворство и искренность, великодушие и мелочность. И думается, в первую очередь потому, что его музыкальное чутье улавливало в музыке не только то, что было явным, но и то, что звучало в ней подспудно, что композитор обронил, может быть, случайно, бессознательно.
Язык звуков Ершов знал так же хорошо, как свой родной русский язык, и для передачи каждого звука в его словесной артикуляции, в каждом жесте, в каждой позе находились почти зримые средства. Мне кажется, что любой иностранец, не знающий русского языка, должен был в вокально-сценической передаче Ершова понимать каждую фразу.
Слушая Ершова на протяжении двадцати лет, придирчиво наблюдая каждый
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 3
- Новые достижения советской музыки 5
- Симфония «1905 год» 6
- Опера «Мать» Т. Хренникова 16
- 40 лет украинской советской музыки 27
- Фестиваль в Прибалтике 35
- О творчестве Мариана Коваля 41
- «Concerto grosso» Э. Тамберга 49
- Струнный квартет К. Орбеляна 53
- Мысли вслух 56
- Советской музыке — большую народную аудиторию 58
- Морис Равель 62
- Воспоминания о Равеле 73
- Неизвестное письмо Н. Паганини 75
- Яворский-теоретик 80
- Новый литовский балет 90
- «Золотой ключик» 94
- Из воспоминаний о пройденном пути 97
- Иван Ершов 101
- Молодые вокалисты 104
- Фортепианные вечера 107
- Концерт-выставка советской музыки 110
- Органный вечер И. Браудо 111
- Азербайджанский эстрадный оркестр 112
- Концерт египетского музыканта 114
- Молодые американские певцы 115
- Хроника концертной жизни 116
- Концерты в городах. Ленинград 118
- Концерты в городах. Таллин 119
- Концерты в городах. Минск 120
- Концерты в городах. Свердловск 120
- Концерты в городах. Пермь 120
- Концерты в городах. Воронеж 121
- Концерты в городах. Тамбов 121
- Концерты в городах. Грозный 121
- Ленинградская филармония к великой годовщине 122
- Первый музыкальный вуз Сибири 123
- Певучее Подмосковье 126
- Ростовчане ждут помощи 127
- Харьковские впечатления 128
- Городовой Небаба на американских хлебах 131
- На конкурсе имени Казальса 134
- Прошлое, настоящее и будущее индийской музыки 139
- Музыка в Берлине 142
- Письмо из Стокгольма 146
- Встречи с Си Син-Хаем 147
- Краткие сообщения 148
- Книга об Алябьеве 150
- Новое о Берлиозе 153
- Учебник по теории музыки 156
- «Русские частушки» 157
- «Грузинские народные песни» 157
- Песни для хора с фортепиано на слова Осипа Колычева 158
- Избранные пьесы китайских композиторов 158
- Анатолий Александров. «Увертюра на две русские народные песни» 159
- В. Баснер. Поэма для скрипки и фортепиано; Мурад Кажлаев. Романтическая сонатина для фортепиано 159
- Конкурс в честь сорокалетия Советской армии 160
- Октябрьские премьеры 160
- Творческий конкурс к сорокалетию Октября 162
- День советской песни 162
- В Союзе композиторов 163
- Праздник адыгских народов 163
- Неделя советской оперы в Сталино 164
- А. В. Оссовский 165
- Указатель к журналу «Советская музыка» за 1957 г. 166



